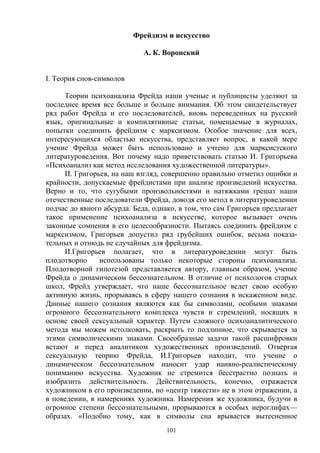сумма психоанализа том 04
- 2. 2 ПРЕДИСЛОВИЕ Отдавая дань уважения и признательности российским психоаналитическим первопроходцам мы сочли возможным и необходимым включить в первые тома серии «Сумма психоанализа» статьи пионеров российского психоанализа. Пользуясь благоприятной возможностью выражаю благодарность А.М.Боковикову, А.Е.Иванову и Ф.Ф.Ильясову за оказанное техническое содействие. Виктор Овчаренко
- 3. 3 СОДЕРЖАНИЕ Ермаков И. Д. Предисловие к книге З. Фрейда «Методика и техника психоанализа» 4 Троцкий Л.Д. Письмо академику И.П.Павлову 15 Горский А.К. Огромный очерк (Фрагмент) 16 Залкинд А.Б. Фрейдизм и марксизм 36 Юринец В.А. Фрейдизм и марксизм 42 Григорьев И. Психоанализ как метод исследования художественной литературы 83 Воронский А.К. Фрейдизм и искусство 101 Выготский Л.С. Психоанализ искусства (Фрагмент) 123 Выготский Л.С., Лурия А.Р. Предисловие к русскому переводу книги З.Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» 138 Вульф М.В. Вступительная статья к книге З.Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» 146 Гаккебуш В.М. К критике современного применения психоаналитического метода лечения 156 Рыжков В. Психоанализ как система воспитания 163
- 4. 4 Предисловие к книге З. Фрейда «Методика и техника психоанализа» И. Д. Ермаков Психоанализ не является методом, взрощенным и вскормеленным в уединении научной лаборатории, оторванной от жизни и действительности; психоаналитический метод выковывался в самой гуще жизни, у постели больного, которому хотелось и необходимо было помочь в его страданиях. Такое ответственное положение терапевта вынуждало его более зорко смотреть и наблюдать за проявлениями болезни, больше отдавать себе отчет в том, что видишь. Помочь больному можно только тогда, когда его понимаешь, и потому психоанализу, как новому методу в психотерапии, предложившему своеобразные приемы для лечения больных, пришлось сначала просто подойти к больному и его наблюдать. В медицинской науке того времени не было не достатка в точных и проверенных знаниях о нервнобольных, особенно страдающих органическими заболеваниями — анатомия и физиология нервной системы как центральной, так и периферической привлекало внимание выдающихся ученых. К сожалению, все эти знания, делающие честь тем, кто над ними работал, совершенно или почти совсем не касались того рода болезней, над которыми психотерапия может обнаружить и добиться целительных результатов. Точно диагностированные анатомические заболевания или должны были оставаться такими, какими их изучил врач, или, что бывало не часто, могли подвергнуться неверному, сомнительному лечению, чаще всего паллиативному, так называемому симптоматическому лечению. Если анатомические заболевания нервной системы интересовали и привлекали внимание ученых, то так называемые функциональные заболевания, к которым причислялось главным образом, истерия, это, по словам Шарко, «великая притворщица», и другие психоневротические состояния встречали у врачей, воспитавшихся на точных знаниях анатомиче- ских взаимоотношений в нервной системе самый недружелюбный прием и отношения. Однако, именно Шарко и парижской школе невропатологов принадлежит честь первой научной попытки сколько-нибудь разобраться в вопросах истерии и близких к ней состояний. Это была эпоха, когда гипнотерапия была единственным способом лечения неврозов. Терапевтическое значение гипнотизма как нового средства переоценивалось и в нем видели, особенно наиболее увлекавшиеся им, панацею от всяких болезней и психических недостатков. Фрейд, один из учеников великого Шарко, желая облегчить страдания больных, перепробовал целых ряд рекомендовавшихся способов лечения. Он пробовал электротерапию, но вскоре должен был убедиться, как мало можно было надеяться достигнуть при ее помощи какого бы то ни было облегчения
- 5. 5 при неврозах. Тогда он стал пользоваться гипнотизмом, к которому однако, подошел несколько иначе, чем другие, применявшие ее в своей практике. Счастливый случай столкнул Фрейда с венским невропатологом Брейером, с которым он некоторое время работал вместе. В результате этой общей работы появился труд обоих авторов под заглавием «Studien ьber Hysterie»; основное классическое исследование вопроса, не потерявшее значение до сих пор. Положения и взгляды, высказанные авторами, с тех пор подверглись дальнейшему анализу и разработке. Нам, в пределах интересующей нас тем о психотерапевтеческом воздействии психоанализа, следует остановиться на методике, впервые здесь нашедшей применение. Авторы отметили чрезвычайно важное явление, у своих больных: предоставленные себе, погрузившись в так называемое гипноидное состояние, больные произносили какие-то слова, делали определенные движения, проявляли иной раз очень сложные и на первый взгляд непонятные реакции на внутренние психические процессы, о которых не больной, не врач ничего не знали. Это было то, что в просторечии называлось разыгрыванием, распущенностью, блажью больного, и для чего наука не имела иного названия как глупости, несуразности, странности. Однако авторы подошли к этим проявлениям больного не с той точки зрения: они пытались понять «смысл» и значение того, что говорил и проделывал перед ними пациент, захотели дать себе отчет в явлении. Тогда обнаружилось, что «глупости» больного тесно и интимно связаны с его болезненным состоянием, и что у больного в его болезненных проявлениях, в его припадках отреагируется, инсценируется некоторое психическое содер- жание, имеющее большое значение в его болезни. Слушая внимательно то, о чем говорили больные в этом состоянии, расспрашивая затем их о том, что они говорили, стараясь облегчить больному вспомнить что-то забытое, ему удавалось разрушить целых ряд пробелом в памяти, так называемых амнезий. При этом выяснилось, что те психические переживания, которых уже нет в памяти больного, находят свое выражение в тех или иных проявлениях их, другими словами создалась теория об амнезии и об «ущемленном» аффекте, который искал своего выражения в телесной сфере больного, снова и снова реагирующего, находя соответственные иннервации для этого «ущемленного» аффекта. Более подробное изложение того, чем обязан психоанализ Брейеру, — который затем отошел от нового учения, — читатель найдет в третьем выпуске настоящей библиотеки в истории психоанализа, изложенной Фрейдом; из этой статьи можно увидеть, какими кремнистыми путями приходилось идти новому учению, прежде чем оно встало на свои собственные ноги. Это было время, о котором Фрейд говорит, что тогда психоанализ «опирался только на одну пару глаз». Эта пара глаз особенно внимательно и вдумчиво всматривалась в проявления болезни и пыталась отдать себе отчет в явлениях.
- 6. 6 Поскольку гипнотерапия представляет из себя ненадежный и сомнительный метод лечения, постольку приходилось искать новых путей, исходящих уже не из непонятного и ближе неопределимого понятия внушения, а исходя из опыта и наблюдений у постели больного. Теоретические обоснования психоанализа, поскольку они покоятся на опыте, читатель найдет в том же третьем выпуске нашей библиотеки. Здесь в этом томике речь будет идти исключительно о практике и методике анализа. Итак, психоанализ на первых шагах своего развития отказался от пренебрежительного отношения к «истерикам» и к «глупостям» больного и наоборот внимательно выслушивал все, что говорил, и всматривался в то, что делал пациент. Короче говоря, он начал с исследований. На этом новом пути детального изучения психической деятельности отдельного человека, к тому еще и больного, психоанализ сделал новые, чрезвычайно важные наблюдения и пришел к утверждению новых положений. Если психиатрию можно сравнить с анатомией, с анатомическим познанием человеческого существа, то психоанализ соответствует гистологическому изучению, то есть таких взаимоотношений, которые обнаруживаются при пристальном, детальном исследовании. Все психоаналитическое исследование покоится на изучении взаимоотношений, связей между отдельными проявлениями психической деятельности человека и рассматривает ее как взаимообусловленную, закономерно построенную. Поэтому психоанализ постоянно и настойчиво разыскивает и допытывается до смысла тех или иных проявлений, понимает психические проявления у человека как законосообразные, подчиненные законам явления. Нет произвола в психической деятельности, как нет его и в неодушевленном мире — следует только искать и найти эти законы. Итак, психоаналитическое исследование началось с того что врач внимательно вслушивался и старался понять смысл того, что перед ним делал больной, чаще всего совершенно не понимавший того, что с ним происходит, и объяснявший свое поведение и речи болезнью. Вслушавшись, врач замечал, что больной вовсе не говорит вздора, наоборот, в его речах и поведении постоянно проявляются такие переживания, которые для него имеют определенное значение. Эти первые наблюдения в анализе сыграли громадную роль в технике изучения больных. То, что больные говорили «зря», что «в голову придет», бессмыслицу — осталось и остается основным требованием психоаналитического метода исследования. Сначала Breuer и Фрейд применяли при своем изучении «гипноидное», полусонное состояние у испытуемых, затем Фрейд совершенно отказался от внушения, которое, по существу, даже мешает изучению, и обратился к тому, что называется «frei Einfдlle», свободно возникающими образами, совершенно неправильно «свободными ассоциациями» или попросту к тому, что лезет, приходит в голову.
- 7. 7 Такое простое требование, которое предъявляет своему пациенту психоаналитик, однако, натыкается нередко на целый ряд помех, в той или иной степени мешающих, препятствующих возникновению образов. Но прежде всего скажем несколько слов о том, как производится это исследование. После того, как больной подвергся осмотру и выяснилось, что его страдание носит чисто функциональный, психический характер, после того, как исключена возможность наличности грубо анатомических изменений у больного в связи с его болезнью — пациенту объясняется, что в его психических проявлениях должны наблюдаться такие же закономерные отношения, как это выяснено для физической природы. Так как о причине своего заболевания, поскольку мы думаем о каузальном моменте, а не о поводе к заболеванию — он ничего сказать не может, и так как его кажущееся ему правильным соображение, что он страдает от каких-то причин, не делает его здоровым, то пациенту предлагается, после того как он убедился в психическом происхождении своего заболевания, отдаться тем мыслям, образам, ощущениям, которые приходят ему в голову и безо всякой критики, не производя никакого отбора между тем, что приходит в голову, говорить все. Заключив такой договор с пациентом, ждешь, что он засыпет тебя целым рядом слов, образом, но очень не редко натыкаешься на то, что больной, к своему огорчению, совершенно не в состоянии, при все своем желании, что-нибудь дать. Бывают случаи, когда такое состояние длится очень долго, и только благодаря настойчивым требованиям и выдержке врача, в конце концов, получаешь то, что у других больных происходит с необычайной легкостью и яркостью. Если в голову ничего не приходит, то хорошо предложить больному первую цифру, какая ему придет в голову, и обыкновенно с цифрами, как с более отвлеченным материалом, дело идет лучше. Один пациент, лабораторный работник, страдающий и до сих пор ночным недержанием мочи, у которого маленький ребенок проделывающий то же самое каждую ночь, дает цифру 2. Из дельнейших мыслей, приходящих ему в голову, он убеждается, что цифра 2 объединяет его с его ребенком в одинаковой возможности для ни сохранить сухой постель. Однако он сомневается, не есть ли это моя, а не его выдумка (хотя я ничего не знал о том, что у него есть ребенок и такого возраста), тогда он предлагает сказать другое число и приводит цифру 5. Из дельнейших ассоциаций выясняется, что это лучшая отметка, какую он получал в гимназии, вспоминается, как обманом он получил ее, за тем следующие ассоциации приводят его к мысли, что если перевернуть вверх ногами 5, то по начертанию окажется все та же цифра 2. Но, еще не убежденный в правильности полученных рядов мыслей и их объяснений, он предлагает остановиться на любимой им цифре 7 и тут замечает, что 7 как раз соответствует сумме цифр 5 и 2, а 5 есть ни что иное как перевернутая цифра 2. Кроме того, 5 приводит к мыслям о пяти пальцах руки и затем к мысли об онанизме. Таким образом «случайно» пришедшая в
- 8. 8 голову цифра 2 оказалась тесно связанной со всеми теми особенно важными и волнующими вопросами у больного, с которыми он пришел лечиться. Эти мысли, имеющие особое значение для больного, сопровождающиеся сильным чувственным тоном, далеко не безразличные для него, называются, как это предложил Юнг, «комплексами». У больного есть комплекс ночного недержания мочи, мысль о том, что в этой своей особенности он подобен своему ребенку, смутные мысли о детском онанизме и много еще других мыслей-идей, которые называются ueberwertige Ideen — то есть идеи, имеющие для субъекта большую ценность или значение, чем другие. Таки образом свободные содержания сознания привели больного, согласно пословице «что у кого болит, тот про то и говорит» к вскрытию неприятных, волнующих мыслей. Если такие мысли и без того волнуют и беспокоят больного, то в этом нет ничего удивительного, и совершенно не понятно для чего нужно еще раз вызывать в сознании больного, что и без того хорошо ему известно. Но дело происходит совсем не так. Больной, действительно, так или иначе может формулировать, что его беспокоит, что его гнетет, однако, рассказывая нам об этом, он отметает, устраняет целый ряд мыслей, образов, переживаний, которые по его мнению, не имеют никакого отношения к его состоянию, то есть, другими словами, больной в обычное время относится избирательно к тому, что ему приходит в голову и выбирает и сообщает только то, что прошло, выдержало критику его сознания и допущено им как более или менее возможная причина его болезни. Однако это знание не делает больного не только способным знать свою болезнь, не только не помогает ему бороться с нею, но, совсем наоборот, повергает его в отчаяние и укрепляет его слабость. В хорошие, свободные от страхов промежутки времени больной смеется и удивляется, как может он поддаваться нелепым и странным опасениям и ужасам, о которых он теперь так легко и так разумно рассуждает, но стоит им появиться и он снова впадает в унизительно жалкое положение. Мысли, здоровые взгляды больного оказываются неспособными предохранить его, предупредить его страхи, помочь ему правильно к ним подойти. Больше того, если бы врач-психоаналитик объяснил больному все зависимости, которые он открывает в душе своего пациента, если бы больной узнал со слов врача о том, почему он, больной, боится, то страх, как оказывается, еще вовсе не исчезает. В начале психоаналитической терапии казалось, что у больного нет соответствующих знаний об его болезни; если ему дать такие знания, то он должен выздороветь. Однако практика учит нас, что просвещение больного, будет ли оно происходит от необоснованных разъяснений врача или от знакомства с специальной литературой, еще не приводит больного к излечению. Для излечения необходимо, чтобы больной сам активно участвовал в раскрытии того, что от него скрыто и сам убедился в том, что это именно так. Указания и советы врача имеют не суггестивный характер, а прежде всего направляют
- 9. 9 внимание больного на ту область, на те ассоциации, которые продуцируются у самого пациента. Поскольку те процессы душевной жизни человека, которые привели его к болезни, подверглись вытеснению и заменились иными, постольку в анализе, оперирующим с такими содержаниями психики, которые сознанием больного не приводятся в связь с его болезнью, основной задачей является установка связей — оживление того, что благодаря выпадению, понимается и чувствуется больным как чуждое ему, не подвластное ему, такое, с чем он не в силах справиться. Больной откровенно, без утайки, честно, без всякой критики (это основное правило психоанализа) сообщает все, что приходит ему в голову, отдается своим мыслям, воспоминаниям, образам, ощущениям и чувствам, и с помощью врача, от времени до времени обращающего внимание больного на то или иное явление, мало-по-малу сам начинает устанавливать связи и понимать то, что с ним происходит. Участие врача выражается в том, что он, никогда не настаивая, может предположить, исходя из своего опыта, то или иное взаимоотношение, но последним доказательством правильности такого предположения будет не предположение врача, от которого врач легко может отказаться, а то, что вызовет оно у больного, с какой цепью, последовательностью мыслей и образов оно свяжется в работе больного. Если врач ошибся, если его предположение неверно, то больной, как в этом легко убедиться, не пойдет за врачом, если же указание правильно, у больного прорывается целый ряд воспоминаний и переживаний, которые не связывались у него раньше ни с чем и которые, как нередко бывает, в настоящее время, когда они у него пробуждаются, не имеют как будто бы никакого отношения к его болезни, «случайны», бессмысленны. Тем, что обратишь внимание больного на ту или иную особенность в его «свободных содержаниях», еще не достигнешь ничего, если только указание неправильно и не соответствует тому значению, какое у данного больного имеет это содержание. Тогда больной идет своим путем, и все искусство психоаналитика заключается в том, чтобы понять смысл того, что говорит больной, и помочь этот «смысл» его свободных содержаний связать ему самому с его болезненными проявлениями и ввести в свое сознание, как разумное и так, вполне понятно, что успех лечения зависит не только от знания и опытности психоаналитика, но и еще от особых качеств больного, и потому никогда нельзя наперед сказать, как далеко может зайти успешность лечения. Поэтому правильнее не давать с самого начала никаких определенных обещаний и приступить к пробному лечению для лучшего ознакомления с тем, что можно жать от больного. Во врем такого пробного периода, около двух недель удается выяснить, насколько больной способен участвовать в лечении, насколько велики его «перенесение» и «сопротивления», с другой стороны, к концу этого периода вполне раскрывается и для психоаналитика общая линия поведения больного. Конечно, психоаналитическое лечение развивается совсем не так гладко и беспрепятственно, как этого хотелось; к великому удивлению врача,
- 10. 10 неискушенного еще в анализах, больной оказывает определенное сопротивление лечению, больной самыми разнообразными, иногда неожиданными проявлениями мешает и затягивает лечение, иной раз охотно и как будто бы с громадным интересом относясь к новой области знаний, превращает самое лечение в один из видов развлечений и участвует в лечении как-то со стороны, или наоборот, всеми силами «показывает» себя, заваливает врача материалом, с которым тот не в силах справиться, или в ходе лечения, вдруг, неожиданно начинают проявляться соматические расстройства, общая усталость, недомогание, сонливость, какие-нибудь боли, например, в голове, в пояснице и т.п. Врач должен быть готовым к тому, чтобы шаг за шагом, упорно преследуя свою цель, отметать, устранять все эти препятствия, анализируя и их, поскольку они являются не соматическими, а чисто психическими проявлениями. Как много приходится иметь дело психотерапевту с такими случаями, когда безуспешно были мобилизированы в борьбе с функцио- нальным заболеванием целый ряд мер как лекарственного аппарата, так и иногда и мероприятия хирургические. Операции при истерических апендицитах и при истерических невритах, приводящие больных на операционный стол и к удалению червеобразного отростка и к иссечению, например, Госсерова узла, как оказывается, не делают больного более здоро- вым, так как болезнь после этих операций не только не излечивается, но и еще и усиливается и делается нестерпимой. Такие случаи диагностических ошибок, когда отчаявшись во всех других средствах обращаются к решительным мерам — явление слишком частое среди пациентов на психотерапевтических приемах. Вполне естественно, что и больной и врач, воспитавшийся на громадной переоценке соматических явлений только уже потом, после операции, приходит к заключению, что и психическая деятельность больного должна подвергаться учету, ее следует принимать во внимание. Особенно в темной области ушных заболеваний врачи забывают, что существуют случаи, когда «плохо слышащим оказывается тот, кто не хочет слышать», не потому, что у него есть какие-либо телесные, анатомические недочеты, а прежде всего психические. Момент психической глухоты, психического ослабления слуха плохо еще учитывается специалистами. Когда-либо в другом месте я поделюсь теми случаями неизлечимой глухоты, которые к общему удовольствию уступили психоаналитическому лечению. Такое положение врача психотерапевта, когда ему приходится исправлять чужие ошибки, может, в свою очередь, стать при недостаточном знакомстве его с общей медициной источником многих, не всегда понятных, тяжелых и неисправимых ошибок. Психотерапии можно подвергать больных только в том случае, если исключена возможность каких-либо тяжелых анатомических заболеваний, иногда требующих скорых и решительных мероприятий и вмешательства. При одностороннем подходе к заболеваниям, как это наблюдается у всех специалистов, можно легко проглядеть то, что выходит за пределы
- 11. 11 интересов и знаний врача. Поэтому психотерапия, как определенная область медицины должна, наконец, найти место среди тех основных дисциплин, которые необходимы каждому врачу к какой бы специальности он себя не готовил. У всякого живого больного неизменно встречается и психическая деятельность, имеющая, вероятно, не последнее значение в его болезни. К такому выводу врачи приходят, к сожалению, не в то время, когда они приобретают медицинские познания, а уже потом, из горького опыта своей деятельности, к огорчению и собственному и их больных. Но вернемся к психоаналитическому лечению. Если гипнотическая терапия обращается, главным образом, к эмоциональной стороне больного, оставляя в стороне другие стороны его, если «рациональная» психотерапия оперирует путем убеждения с интеллектом больного, отрицая значение чувства, если гипнотерапия усыпляет и успокаивает, а «рациональная» психотерапия убеждает и распекает, доказывая, что больной мало смыслит в своей болезни, то психоанализ прежде всего дает себе отчет в том, что он имеет дело с целым человеком, у которого есть инстинкты, чувства интеллект. Инстинкты или влечения ведут его по определенному пути, стремления Я по другому, о чувства и интеллект играют значительную роль в этой борьбе. Лечение может начаться, больной может лечиться только в том случае, если он связан «чувством» с врачом, если он способен на «перенесение». Это «перенесение» — мощный фактор лечения. Он имеется во всех случаях всякого лечения и играет то большую, то меньшую роль. В психоанализе «перенесение» — сила, которая учитывается и которой сознательно пользуются во благо больному. «Перенесение», как говорят в гипнотерапии «раппорт» позволяет начать лечение, позволяет больному слушать и «верить» психотерапевту. Этой верой, этой симпатией, авторитативным влиянием врач пользуется для того, чтобы перестроить по новому психотическое состояние больного. Громадное значение момента «перенесения» выяснено только в связи с психоаналитическим лечением, причем обнаружилось, что лица, не способные на «перенесение», в то же время не доступны лечению. Это относится к тем «нарцистическим» неврозам, к которым мы причисляли раннее слабоумие и паранойю. Механизм лечения, таким образом, схематически сводится к тому, что больной, совершив «перенесение», о котором он точно не знает, и которое происходит по мимо его сознательных желаний, в то же время, оказывается, обнаруживает иное посторонние своего невроза, в центре которого теперь стоит врач. Если врач дает себе отчет в том, что произошло в болезни больного, и умеет использовать его способности к «перенесению», то лечение начинается, и больной удивляет теми быстрыми успехами в своем осознании болезни, которые обыкновенно наблюдаются в это время. Все интересы больного, все разговоры, очень многие сновидения вертятся вокруг личности врача, которая стоит теперь в центре переживаний больного. Больной легко усваивает трудные и вызывающие у других
- 12. 12 сопротивление новые способы понимания совей болезни и радует этим врача. Однако, это длится не долго. Рано или поздно наступает противоположное отношение, и тогда все разыгрывается в психике больного уже по другому. То, что и в первом и во втором состоянии центр тяжести лежит вовсе не процессах познания больного, а, наоборот, в его эмотивном состоянии, в этом не может быть никаких сомнений. Эмотивное состояние позволяет больному или принимать на веру то, что говорит врач, или, наоборот отрицать то, что было принято на веру. Ни в том, ни в другом случае нельзя ждать толку от этого процесса. Он, однако, всегда, как правило, сопровождает начало лечения. Аффективные отношения к врачу нередко переходят всякие границы, но это так же часто встречается в психотерапии, как и при всякой другой врачебной деятельности. Различие в отношении к этому явлению у психотерапевта сводится к тому, что он сознательно пользуется этим «перенесением», не оставаясь к нему пассивным или смотря на него, как на некоторое осложнение, при том досадное, во время лечения. Тот, кто не понимает этого процесса, не в силах использовать его, тот, кто примитивно понимает его, как либидинозную привязанность, как недостаток сексуального удовлетворения, приходит к так называемому «дикому» психоанализу, о котором в этой книжке говорит Фрейд. Но и «перенесение» со стороны врача не исключается, особенно тогда, если врач не знает об этом моменте в лечении больных. «Перенесение» со стороны врача, не осознанное им, к которому он не в силах подойти, как к творческому моменту в лечении, приведет его в затруднительное положение и не позволит ему использовать его в терапевтических целях. Лечение при психоанализе имеет много общего с процессами сознательного воспитания когда больной не толь верит и убеждается, опираясь на авторитет врача- воспитателя, но и обращается к самостоятельному мышлению, разрешению вопросов, которых он один, чувствуя свою слабость, не мог решить. Чувство «несостоятельности», как его называет Фрейд, является тем тягостным чувством, которое уводит больного от действительности и ведет его к так называемой интроверзии. От реальности увели больного неразрешимые для, него обычно, в прежнее время, коллизии, из которых он не надеялся выйти. Теперь положение дел изменилось: больному приходится решать и находить выход из конфликта уже не одному, а с помощью врача, возраст больного уже другой, и то, что казалось его детскому сознанию неодолимым, теперь, в другом возрасте и при других условиях может быть приведено к благополучному исходу. Для такого благополучного исхода из детского, вновь ожившего конфликта, сопровождающегося теми же детскими чувствами, выйти можно только при помощи и под наблюдением врача, который в это время ведет с больным сознательную, воспитательную работу. Возвращаясь к случаю, о котором я уже говорил, у больного, продолжающего в 30 лет исправно мочить каждую ночь свою постель, — я отмечаю, что в свободных содержаниях больного всплывают различные по ценности с его точки зрения образы, воспоминания, мысли; одни, как ему
- 13. 13 кажется, не имеют никакого к нему отношения, другие очень малое или сомнительное, и только очень немного таких мыслей, которые он считает достойными того, чтобы сообщить о них врачу. На предложение сказать первую пришедшую в голову цифру, больной, как мы знаем, назвал цифру 2; ему казалось, что 2 цифра безразличная. В дальнейшем анализе ему пришлось убедиться, как неправильно об этом думал. Такой опыт приводит самого больного к некоторым выводам, и затем облегчает дальнейший анализ. Больной убеждается, что если он в течение лечения захочет скрыть что-либо от аналитика, то работа во время сеанса сведется к тому, что это сопротивление сломается, и больной должен будет сознаться, что он что-то хотел скрыть. Нужно, чтобы больной говорил все, и важное и не важное с его точки зрения, и то, что он хотел бы сказать, и то, о чем он предпочел бы не распространяться. При таком условии лечение идет правильно, только изредка нарушаясь преходящими заминками и помехами. Но что же получается от того, что больной говорит, сообщает все приходящее ему в голову? Психоаналитик прежде всего должен настроиться также, как его пациент и безо всякой критике выслушивать все, что говорит больной. Всякое предвзятое, тенденциозное отношение к словам пациента мешает врачу видеть больного, так как «смысл» слов больного заслоняется «смыслом» самого врача. Не раскрывается, а заслоняется. Задача психотерапевта, наоборот, увидеть и узнать не то, что знаешь, а узнать то, что представляет из себя психическая жизнь пациента. Больной рассказывает все, что ему приходит в голову, врач, слушая слова его, понемногу выясняет тот «смысл», который скрывается за его словами, и делает замечания, высказывает соображения, но всегда в виде предложения, от которого он легко может отказаться. Дальнейшие «ассоциации» и эмотивные состояния пациента откроют ту объективную правду пациенту и врачу, для которой и производится это исследование. Сущность психоаналитического лечения, таким образом, сводится к тому, чтобы, пользуясь «перенесением» больного бороться с «сопротивлением» его болезни, переводя из бессознательного в сознание определенные содержания его психической деятельности. Однако под именем бессознательного в психоанализе понимается не особое свойство того или другого психического процесса, то есть то его свойство, что он недоступен сознанию, а нечто большее — это принадлежность его к определенной системе, в которой наблюдаются определенные взаимоотношения и процессы. Поскольку при психоанализе дело идет о системе, постольку в практике психоанализа мы оперируем подбираясь в нее путем утомительный и настойчивых преодолений. Осмыслив тот или другой симптом или проявление, больной идет дальше и только в последующем лечении и анализе мало-помалу раскрывает значение таких «свободных ассоциаций», которые сначала ему представлялись неважными. Бессознательное обнаруживает свои содержания
- 14. 14 в сознании только в искаженном виде, вот почему критическая оценка Я инстанции, которая повлекла за собой вытеснение, не может быть беспристрастной и сводится к тому, чтобы не дать возможность проявиться вытесненному. На моменте «свободных содержаний сознания» я позволил себе остановиться так подробно, потому что в подобранных в этом томике статьях Фрейда нет нигде более обстоятельного описания этого чрезвычайно важного процесса, с которым прежде всего знакомится в своей практической деятельности психоаналитик. Томик «Методика и техника психоанализа» может служить прекрасным введением к практическому знакомству с психоаналитической работой и содержит очень много ценных указаний, все значение которых станет ясным по преимуществу только тем, кто начнет заниматься анализом практически. Для таких лиц эта книжка будет особенно драгоценным пособием, тем более, что она составлена из статей самого Фрейдa и показывает не только на те достижения, к которым он пришел, но и на те пути, по которым он шел. Фрейд З. Методика и техника психоанализа. М., 1923, с. 3–16
- 15. 15 Письмо академику И. П. Павлову Л. Д. Троцкий Многоуважаемый Иван Петрович! Простите, что позволяю себе настоящим письмом оторвать вас от вашей, имеющей исключительное значение, работы. Оправданием да послужит мне то, что вопрос, хотя и дилетантски поставленный, имеет, как мне кажется, прямое отношение к созданному вами учению. Дело идет о взаимоотношении психоаналитической теории Фрейда и теории условных рефлексов. В течение нескольких лет моего пребывания в Вене я довольно близко соприкасался с фрейдистами, читал их работы и даже посещал тогда их заседания. Меня всегда поражало в их подходе к проблемам психологии сочетание физиологического реализма с почти беллетристическим анализом душевных явлений. По существу, учение психоанализа основано на том, что психологические процессы представляют собою сложную надстройку на физиологических процессах и находятся в служебном положении к этим последним. Связь «высших» психических явлений с самыми «низшими» физиологическими остается, в подавляющем большинстве случаев, подсознательной и прорывается в сновидениях и проч. Ваше учение об условных рефлексах, как мне кажется, охватывает теорию Фрейда как частный случай. Сублимирование сексуальной энергии — излюбленная область школы Фрейда — есть создание на сексуальной основе условных рефлексов n+1, n+2 и проч. степени. Фрейдисты похожи на людей, глядящих в глубокий и довольно мутный колодезь. Они перестали верить в то, что этот колодезь есть бездна (бездна «души»). Они видят, или угадывают, дно (физиологию) и делают даже ряд остроумных и интересных, но научно-произвольных догадок о свойствах дна, определяющих свойство воды в колодце. Учение об условных рефлексах не удовлетворяется полунаучным, полубеллетристическим методом вприглядку, сверху вниз, а спускается на дно и экспериментально восходит вверх. 27 сентября 1933 г. Троцкий Л. Д. Сочинения. М.-Л., Госиздат, 1927, т. 21, с. 260
- 16. 16 Огромный очерк (фрагмент) А. К. Горский Законы движения потока образов, вихрей воображения заправляющих поэтическим творчеством, однородны с законами сновидения, сновидческого воображения. Как раз в этой последней области изучения процесса сновидения еле даны наукой, главным образом психоаналитической школой, за последние 30 лет огромные завоевания, так что теперь можно сказать: «Уж проходят караваны через те скалы, где носились лишь туманы, да цари орлы». Эта сфера, искони облюбованная мифотворцами и мистиками разных видов, подверглась систематическому нашествию и обследованию трезвых работников науки. Правда, работа их eine не доведена до конца. Но, исходя из добытых ими результатов, мы можем сейчас наметить основные принципы, управляющие образованием зрительных форм сновидческого восприятия. Три, тесно связанные между собою, принципа: 1. Аутоэротическая зеркальность. 2. Внутрителесность пространства. 3. Органопроекция. Термин «аутоэротизм» был впервые введен в 1898 году Хэвлоком Эллисом, описавшим случаи «полового возбуждения при самолюбовании, которое, можно сказать, проявляется, главным образом, у женщин». И особенно ярко у тех, «которые обладают по отношению к другим лицам притягательной силой». «Несомненно, — писал этот автор, — некоторые мальчики и некоторые девочки в первый раз узнали половое чувство при созерцании своего собственного тела в зеркале». Он приводит «типичный» случай: молодая 28-летняя женщина, во всех отношениях здоровая дама, «испытывает сильное влечение к созерцанию самой себя, особенно нижней части своего тела, чувствует себя особенно счастливой, когда она бывает одна, обнаженная, в своей спальне. Она знает наизусть каждый уголок своего тела и гордится тем, что оно сложено согласно всем законам правильного построения человеческого тела. Она вполне сознательно стремится к этому (самолюбованию), не испытывая какой-либо застенчивости, и, хотя дозволяет другим созерцать себя, однако к этому не стремится и испытывает лишь удовольствие при самонаблюдении». Обозрев явления аутоэротизма «во всей их полноте», Х. Эллис пришел к выводу, что здесь мы «имеем дело не с каким-либо видом душевной болезни и не с каким-либо сортом испорченности, но с неизбежным побочным продуктом сильного процесса, на котором покоится весь животный мир». С того момента различные исследователи заговорили о подобных случаях, особенно Ф. Накке, введший новый термин «нарциссизм». Среди 1500 душевно больных Накке нашел нарциссизм у четырех мужчин и одной женщины. Д-р Хьюз заявил, что ему известны такие факты, когда мужчины занимаются созерцанием своего корпуса и своих органов, а женщины своей
- 17. 17 груди и особенно бедер. «Весь вопрос, — по его мнению, — заключается в том, что тут мы встречаемся с редкой фазой психологии: она не болезненна и приближается к тому эстетическому характеру, с которым мы смотрим на наготу в искусстве». Повторилась история с открытием «частного случая», тоже замечательного, хотя, конечно, «случайного и побочного» явления, — действия нагретого янтаря на кусочки бумаги, его странного свойства, названного по имени янтаря электричеством. Давшие это название не могли подозревать о том электромонизме, под знамя которого сейчас встали все науки о природе. С каждым днем становится яснее, что понятию аутоэротизма суждено сыграть точно такую же роль универсального объединяющего принципа в области наук психических. Оба термина — «аутоэротизм» и «нарциссизм» — были усвоены Фрейдом и исследованы для его «теории сексуальности», построенной на данных психоанализа. Год за годом, в соответствии с накоплением отработанного материала, Фрейд дополнял и расширял основные свои положения. В результате влечениям и импульсам, вырастающим на почве аутоэротизма, приходилось все больше и больше уделять внимания, и тем более центральное значение приобретал сам термин. Он стал обозначать теперь уже не «редкую фазу» и не побочный, хотя и постоянный продукт развития, но первичный стимул, корень, питающий ствол всех психических, психофизиологических процессов. Все ответвления этого ствола, каковыми являются эротические влечения к объекту, могут только временно заслонить, замаскировать, но никак не заменить собой самого ствола. Выразительны утверждения Фрейда, вставленные им в последнее издание «Теории полового влечения»: «Из психоанализа мы, как через границу, преступить которую нам не дозволено, глядим в водоворот нарциссического либидо, и оно кажется нам большим резервуаром, из которого высылаются привязанности к объектам и в который они возвращаются: нарциссическая привязанность и либидо к Я кажется нам осуществленным в первом детстве, только прикрытым благодаря поздним его отросткам, но, в сущности, оставшимся неизменным за их спиной». То же в специальной статье о нарциссизме: «Первично либидо концентрируется на собственном Я, а впоследствии часть его переносится на объекты; но по существу этот переход либидо на объекты — не окончательный процесс, и оно вес же продолжает относиться к охваченным им объектам, как тельце маленького плазматического существа относится к выпущенным им псевдоподиям. Мы, естественно, вначале не замечали этой доли либидо, так как исходили в нашем исследовании из невротических симптомов» (где в глаза бросается именно «объект либидо»). Перед психоанализом встает теперь задача пересмотра и переоценки прежде добытых данных, и заострения аналитического метода в соответствии с новым, углубленным пониманием психосексуальной основы. Фрейд где-то рассказал, как одному молодому человеку для иллюстрации техники забывания и обмолвок было предложено назвать, не думая, первое попавшееся женское имя. Несмотря на то, что он был в жизни заинтересован
- 18. 18 и связан со многими женщинами, он назвал имя, не принадлежащее ни одной из них: Альбина. Оказалось, что он был альбиносом — и это имя должно было означать, что наиболее интересной для него женщиной является в данную минуту он сам. Если бы, однако, аналитику удалось установить принадлежность названного имени одной из действительных женщин или, допустим, вскрыть его связь с инфантильными фантазиями, с отношением к матери и т.д., то неужели на этом можно было прекратить раскопки душевной глубины? Разве не ясно, что выбор имени не только для данного молодого человека и не только в данную минуту, но всегда и для всякого будет, в конце концов, обусловлен аутоэротическим импульсом, который, конечно, не везде так обнажен, но большею частью замаскирован, загримирован до неузнаваемости. И мы видим, как в превосходном разборе Фрейдом бреда и снов в «Градиве» Йенсена остается все же совершенно не вскрытый аутоэротический мотив, заправляющий всем поведением героя этой новеллы и вынуждающий его искать объекта любви по принципу «отожествления», а не по принципу «опоры», как бесчисленное множество путешествующих влюбленных пар. Художник резко противопоставил эти два типа, аналитиком же подчеркнуто только их сходство. То же самое нужно сказать по поводу классического трактата о Леонардо да Винчи. И здесь автор робко останавливается у границ «нарциссического либидо». Говоря об изображениях Иоанна и Вакха, где в фигурах замечается странная связь мужского и женского, автор замечает: «Картины эти дышат мистикой, в тайну которой не осмеливаешься проникнуть». Об этом недостатке смелости исследователя можно только пожалеть. Исследователь объяснил бы многое, если не все, что осталось не разъясненным в психике художника. У этой «мистики» имеется теперь психоаналитическое название, но Фрейд бросает лишь фразы о «скрытом торжестве во взглядах этих изображений»: «они знают о большом счастье, о котором нужно молчать: знакомая обольстительная улыбка заставляет чувствовать, что это любовная тайна». И только! Вообще, не применяя во всей широте принципа отождествления или аутоэротической зеркальности, нельзя дать исчерпывающее «толкование сновидения». Вот отчего, высказывая ряд проницательных догадок, Фрейд то и дело признается: «В сущности, никогда нельзя быть вполне уверенным, что мы истолковали сновидение; даже в случае, когда толкование вполне удовлетворяет нас и, по-видимому, не имеет никаких пробелов, остается все же возможность, что то же самое сновидение имеет еще и другой смысл». Масштаб меры сгущения, строго говоря, определяется всегда одним фактором: силою аутоэротического импульса. Добравшись до него, мы находимся у истока, у первичного контура, очертания сонного видения. Ведь, как многократно подчеркивается Фрейдом, — «все сновидения, без исключения, изображают непременно самого спящего. Там, где в содержании сновидения содержится не мое Я, а другое лицо, там я имею полное основание предполагать, что мое Я скрыто путем идентификации за этим
- 19. 19 лицом. Сновидение указывает, что при толковании его я должен перенести на себя нечто присущее этому лицу — скрытые общие черты. Бывают также сновидения, в которых мое Я проявляется наряду с другими лицами, которые при анализе, после раскрытия идентификации, оказываются опять-таки моим Я. Я должен тогда при помощи этих идентификаций связать со. своим Я известные представления, против которых восставала цензура. Таким образом, я могу в сновидении изобразить свое Я различным путем. Иногда даже одновременно, либо непосредственно, либо при помощи идентификации с другим лицом. Некоторые такие идентификации способствуют сгущению чрезвычайно обильного материала мыслей» (Фрейд «Толкование сновидений», Москва, 1913, с. 267). Усталость как бессознательное разочарование, плод неудачи бодрственных идентификаций и состояние сна как «нарциссический возврат либидо к самому себе» — такова предпосылка сновидческого (равно художественного, творческого) процесса. И забываю мир и в сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображеньем, И пробуждается поэзия во мне... И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. «Знакомцы давние» — одни и те же, упорно и периодически закономерно, зеркально возникающие — друг в друга переливающиеся образы-отражения сновидческого Я. Как раз настойчивость, навязчивость, повторяемость их превращает сновидца в художника, в поэта, давая возможность, вернее — понуждая запоминать и воспроизводить их. В таких случая вихрями потоков воображения управляет один центральный образ, кристаллизующийся, формирующийся в их волнениях, сгущениях и сдвигах. Этот образ, неотде- лимый от Я созерцающего и в то же время для него как-то недосягаемый, ему полярно противопоставленный обыкновенно именуется у поэтов образом «музы». В появлении его видят исток всей творческой тревоги, всей лирической взволнованности Аутоэротический генезис этого образа не подлежит ни малейшему сомнению. Надо, однако, заметить, что аутоэротика здесь не совпадает ни с первичным инфантильным планом оральной и садистско-анальной фазы, ни с позднейшим нарциссизмом, ориентированным на «единство личности», представляемым мозговым, головным Я и ассоциированным, по преимуществу, с внешностью не закрытого одеждами лица. Подобному Я можно противопоставить цельный индивидуум как непознанное и бессознательное «оно». (Эта очень удачная формулировка, предложенная Гроддеком, принята Фрейдом в одной из по- следних его теоретических работ.) «Я охватывает Оно поверхностно и не целиком, примерно так, как зародышевый кружок расположен в яйце. Я есть только измененная под прямым влиянием внешнего мира часть Оно, своего рода продолжение
- 20. 20 дифференциации поверхностного слоя. Я старается также содействовать влиянию внешнего мира на Оно и осуществлению тенденций этого мира. Оно стремится заменить принцип удовольствия, который безраздельно царствует в Оно, принципом реальности. Восприятие имеет такое же значение для Я, как влечение для Оно. Я олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью, в противоположность Оно, содержащему страсти. Все это соответствует популярным и общеизвестным разграничениям, однако может считаться верным только для некоторого среднего идеального случая». Пользуясь этой терминологией, мы можем сказать, что та аутоэротическая направленность, которая питает сновидческий процесс, будучи полна отголосками нарциссизма — с одной стороны, оральной и анальной локальности — с другой стороны, главным образом строится не на них, а на эротическом влечении, эротическом восхищении собственным телом в его целости, причем представителем этой целости является не столько головное Я (верхнее лицо), сколько таинственное, загадочное Оно (нижнее лицо), несконцентрированная, непроявленная смутная масса, маг- нитное облако сил, в котором уже сквозит и угадывается она (царь-девица, богиня, лучезарная подруга — муза). Создание образов — воображение, мечта, игра. С кем, однако, здесь человек играет (и что он может выиграть)? «Он разлюбил игрушки и стал мечтать, — пишет о ком-то, конечно, о себе, Лермонтов в предсмертном отрывке начатой повести. — Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно, но — увы! — никто не подозревал в нем этого скрытого огня, а между тем он охватил все существо бедного ребенка». И в другом предсмертном отрывке рисуется самый процесс этой странной игры. Вначале почти не известно, из-за чего она ведется, в «воздушном банке» какое-то смутное, неопределенное Оно. «Это? — сказал Лугин, испугавшись, и кинув глаза налево. — Что это? Вокруг него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся... — Мечите! — сказал он, оправившись. Идет темная!..» Через день — в разгаре игры «он почувствовал вокруг себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновение. Странный и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновение обернул голову и тотчас же опустил взор на карты. Но этого минутного взгляда было бы довольно, чтобы заставить его проиграть душу. То было чудное, божественное видение. Склоняясь над его плечом сияла женская головка... ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая. Она отделялась на темных стенах комнат, как утренняя звезда на туманном востоке... в неясных чертах дышали страсти бурные и жадные, желание, страх, любовь, грусть, надежда... То была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и радуемся, и молим... одно из тех божественных созданий молодой души,
- 21. 21 когда она в избытке сил творит для себя новую природу лучше и полнее той, к которой прикована». И с этих пор — уже не туманное и вызывающее отвращение Оно, а какая-то она, хотя с чертами тоже еще неясными, и названия даже не имеющая: «Она, не знаю, как назвать ее, она, казалось принимала трепетное участие в игре». Поиск для себя «новой природы», представление (поставление перед собой, впереди себя — во «внешнем» пространстве) проекции нового тела взамен того, к которому человек прикован и которым он не удовлетворен — вот смысл «явления музы» и несознаваемая цель той игры воображения, которую мы называем художественным творчеством. Как только возник хотя бы еще неясный чертеж новой схемы органических волн, проект реконструкции организма, сейчас же натягиваются струны, «душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит». Психологический процесс, который является предпосылкой этой игры, вполне аналогичен с тем из перечисленных Фрейдом случаев выбора объекта по нарциссическому типу, когда субъект испытывает эротическое влечение не к тому, что он сам из себя представляет или чем был прежде, или что было частью его самого, но и к тому, чем он хотел бы быть. Чем выраженное этот тип влечения, тем длиннее и сильнее лирические волны. Всякий уклон к одному из предыдущих типов к самовлюблению, самоудовлетворенности — влечет за собой проигрыш в этой игре, то есть отодвигание, потухание образа музы, сужение творческого диапазона. Зарождение и формация этого типа связана с тем периодом жизни, который является кульминационным пунктом всего развития детской сексуальности. Здесь доминирует повышенный интерес к гениталиям. Поэты рождаются или делаются? Скорее всего — делаются, но очень рано. К пяти годам у ребенка уже определенно складывается та психическая установка, которая потом дает ему возможность при благоприятных условиях проявить себя в искусстве. Если же она не сложилась, то никакие позднейшие усилия поэта из него не сделают. От предпринятого трехлетним-четырехлетним ребенком сексуального исследования — от участи его домыслов и гипотез, выдвигаемых как ответ на вопрос, откуда берутся дети, — зависит направление его любознательности и творческой активности в зрелом возрасте. Инфантильный интерес исследователя — ничто другое, дает нам понять Лермонтов, завели Лугина в Столярный переулок. Во время расспросов дворника «сердце его забилось, должен ли он был продолжать свои исследования? Не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случайтесь находиться в таком положении, тот с трудом поймет его. Любопытство, говорят, сгубило род человеческий: оно и поныне — наша главная первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть — покорные ему мы, подобно камню, сброшенному с горы сильной рукой, не можем остановиться, хотя видим ожидающую нас бездну».
- 22. 22 Все такие случаи являются воспроизведением единственного детского случая; игра воображения, названная, в отличие от других, видом познания, искусством, вся состоит из погони за такими случаями. В художнике живет во всей силе «интеллектуальный нарциссизм», примитивная вера во «всемогущество мысли», «приемы воздействия на внешний мир, составляющие магию и производящие впечатление последовательного проведения в жизнь фантазий о «собственном величин». «В одной только области, — замечает Фрейд, — всемогущество мысли сохранилось в нашей культуре — в области искусства. В одном только искусстве еще бывает, что томимый желаниями человек создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра благодаря художественной иллюзии будит аффекты, как будто она представляет собой нечто реальное. С правом говорят о чарах искусства и сравнивают художника с чародеем. Но это сравнение, может быть, имеет большее значение, чем то, которое в него вкладывают. Искусство, несомненно, не началось, как «искусство для искусства»: первоначально оно служило тенденциям, большей частью уже заглохшим в настоящее время. Между ними можно допустить и некоторые магические цели». Теперь каждое выражение — «магия», «чародейство», «художественная иллюзия», создание чего-то похожего на удовлетворение — все это проще и нагляднее выражается одним словом — зеркальность. Искусство — это стремление и умение достигать такой силы восприятия аутоэротической зеркальности, при которой вспыхивает, хоть на миг, безотчетная уверенность в возможности создания себе «новой природы», возможности реконструкции организма по схеме, по образу, возникающему из хаотического тумана излучаемых в пространстве волн видения. Здесь та ставка возможного выигрыша, ради которого лишь и могла возникнуть и может продолжаться эта столько веков не прекращающаяся игра. «Игру эту боги затеяли». Иллюзия ценится, поскольку бессознательно мыслится конст- руктивно-зрительным проектом. Если всякое сновидение — возврат к нарциссизму, то и всякое сновидение в этом смысле художник. Все в сновидении строится по принципу зеркальности. «Переворачивание, превращение в противоположность» — таково, по Фрейду, одно из излюбленных средств изображения сновидения. Это осуществление желания, противоположного какому-либо элементу скрытых мыслей сновидения. «Хоть бы это было наоборот«. Проще сказать, эта перевернутость — основное свойство зеркальности как таковой, «тоже навыворот». Ведь всякое отражение — оборотень. Вот отчего в сновидении сплошь и рядом правое является левым, левое — правым (как в обычных зеркалах), а также переднее является задним, а заднее — передним (как если бы впереди искоса поставленное зеркало отражало отражение другого, поставленного сзади). Далее, верхнее представляется нижним и нижнее — верхним (как в зеркалах, горизонтально положенных на пол или вделанных в потолок), наконец, выпуклое — вогнутым и вогнутое выпуклым, кривое — прямым и прямое — кривым, угловатое — закругленным и закругленное угловатым, наружное —
- 23. 23 внутренним и внутреннее — наружным, единое — множеством и множество — единством. (Всякие подобного рода эффекты более или менее достижимы и наяву с помощью различным образом изогнутых, отполированных и расставленных зеркал, зрительных плоскостей планов.) Сонное видение с необыкновенной быстротой и разнообразием пользуется всеми этими приемами для достижения своей цели, то есть для удовлетворения какого- либо желания. Но все желания в конечном счете вырастают, как ветви и листы, из одного ствола и сводятся к одному: увидеть себя в ином — обратном и более привлекательном образе, где удержаны лучшие образцы старого образа и дополнены новыми, недостающими. Хромой видит себя с выпрямленной ногой, кривому грезится его потерянный глаз. Человек однополый (мужчина) создает «в своем воображении по легким признакам» образ красавицы, обрисовывающий скрытую женскую сторону его бисексуальной биологической природы. Сновидческая и творческая фантазия без всякого труда перепархивает через ту пропасть, какая существует в нашем сознании и привычном восприятии — между «мужским» и «женским» и посредством зеркальных наведений искусно усвояет одному полу признаки другого. На такой же точно зеркальности основан и тот род эротического влечения к объекту, из которого развилась «половая любовь» всех оттенков и градаций. Изначальная бисексуальность индивидуума является той почвой, на которой разыгрывается аутоэротическое воображение, могущее потом быть использованным в целях того или иного переноса. Для художника здесь существенен начальный момент процесса, не столько «любви мечта», сколько предшествующий ей и ее зажигающий (иногда же и не зажигающий) «легкий сон, сей тонкий сон воображения, что посылает Аполлон, не для любви, для вдохновенья». Вся «магия» этого тонкого сна, дающего «свободное проявление» органическим энергиям, зиждется на еще недостаточно изученных законах оптики, позволяющих возникать такой планировке зеркал, при которой стирается грань между близью и далью. Далекое может страшно прибли- зиться, близкое — бесконечно отодвинуться. Размеры предмета в связи с этим легко меняются: крупное может уменьшиться до точки, крохотное — занять все поле зрения, как под стеклом микроскопа, и т.д. Множество возможных при этом комбинаций и сочетаний отдельных образов и целых цепей их (как бы пересекающихся и перепутанных кинематографических лент) — перечислять нет надобности. Например, И. Эйгес, разбирая «Первое января» Лермонтова, указывает на сплетение здесь трех, вдвинутых друг в друга, снов, «наподобие того, как глядя в оконное стекло, можно при известных условиях освещения видеть, кроме образов предметов, находящихся за окном, еще и отражение в стекле образов предметов перед окном (в том числе и свое собственное изображение), пропускающих всю картину сквозь себя. Полная аналогия была бы здесь в том случае, если бы с исчезновением из поля зрения этих отраженных образов исчезла бы вместе с ними и виденная сквозь них картина, что как раз мы имеем в состояниях
- 24. 24 сновидческого созерцания (и данного лирического)». (Эйгес «Лермонтов», Аполлон, 1914, № 10, с. 53.) Отсюда-то, при сколько-нибудь заметном усилении аутоэротической зеркальности, неизбежно возникает присущее сновидению чувство внутрителесности пространства. Поскольку круг «свободного проявления» изливаемых лирических волн начинает казаться неограниченным, постольку, естественно, исчезает, стирается та условная черта, которая отделяет изолированное «тело», крохотный кусочек «внутреннего» мира от чуждой и давящей «внешней» среды. Зрение окончательно торжествует над осязанием; осязательные ощущения растворяются в зрительных, замирая летят за ними вдаль, как змей на крыльях орла. Ведь соотношение перспективных планов, вводимое нами в обычное зрительное восприятие, есть всегда плод бессознательной проверки на осязание. Ребенок, естественно, тянется схватить видимую перед собой луну и только неприятный опыт убеждает его, что многое «видит око, да зуб неймет». Не слишком сложны приемы, с помощью которых сновидение завоевывает все внеположное сновидцу. Наложение чертежа очертания телесной формы, соответственно зеркально увеличенной, на тот или иной пейзаж (небо, море, поле) или группу образов (животных, человеческих) — совпадение основных линий этого пейзажа с конурами телесной схемы, особенно легко дающееся при малейших признаках симметричности пейзажа (ситуации здесь нередко напоминают загадочные картинки), наконец, при недостаточности общего соответствия — ряды мелких частных детальных соответствий, аналогий, сигналов (знаков, символов), неубедительных каждое порознь, но покоряющих своей совокупностью. Можно определить внутрителесное пространство как фон, зеркально раздвинувший и углубивший образ. Вот типичный образец сновидческого ландшафта, приводимый Фрейдом. Это снилось простой женщине, муж которой служил сторожем. «Кто-то забрался в дом, и она в страхе позвала сторожа. Но тот мирно отправятся вместе с громилами в церковь, к которой вели несколько ступеней: позади церкви была гора, а наверху густой лес. На стороже был шлем и ряса; у него — большая рыжая борода. На громилах, мирно шедших с ним, были большие мешкообразные фартуки. Из церкви в гору шла дорога. Последняя, с обеих сторон, поросла травой и кустарником, который ста- новился все гуще и гуще и на вершине горы переходил в густой лес». Здесь ландшафт воспроизводит во всех деталях топографию женской половой сферы. Мужские же органы символизированы человеческими фигурами на его фоне. Таким образом, это сновидение может одновременно служить образчиком применения третьего построительного принципа сновидения, а именно — органопроекции. С его помощью представляется — проецируется в пространство не целое тело, а какая-либо часть взамен целого, какой-либо один из органов,
- 25. 25 причем, однако, он по возможности снабжается неким полномочием на представительство от всего организма. Это как бы зародыш, семя, по- тенциально еще не развившееся, не сформировавшееся отражение всего органического целого. В животном мире регенерации клеток, когда внешняя среда недостаточно податлива (прозрачна, зеркальна, пронизываема взором), чтобы воспроизвести отражение всего целого, приходится довольствоваться частичным отражением в надежде, что зацепившись с его помощью, связавшись с его помощью с кругами внетелесных волнений, переплеснуться туда потом целиком. Такая надежда, впрочем, как увидим, не всегда оправдывается. Самая органопроекция есть уже начало ослабления сновидческой магии (зеркальности) — уступки, компромисса со стороны «всемогущей мысли». Далее обыкновенно идет в сновидении, как частный (и, однако, слишком частый) отучай органопроекции, то, что можно назвать органодеекцией, то есть отделением, отпадением, отсечением проецированного органа. Здесь постройка нового организма сказывается в расстройстве старого, конструкция стоит на деструкции — лирика переходит в драму. Лирическая волна разбивается: вместо одного поющего взволнованного (дрожащего, вибрирующего ) голоса — слышны два спорящих (диалектика) и видны два противопоставленных, друг друга выталкивающих образа (двойники). То, что некоторые исследователи сновидения (Фолькельт, Дюпрель) называли драматическим разделением, в дальнейшем распадении субстрата теснейшим образом связано с кастрационным комплексом. Психоанализ удостоверяет, что любой отсекаемый орган всегда является в конце концов символом, заменителем (для цензуры) или аналогичным соответствием (по характеру процесса) единственного органа, исключительное внимание к которому бессознательного мышления отпечатлено в сновидении, как равно в искусстве, языке и мифе. «Сексуальная символика, — пишет д-р Абрахам, — есть психологическое явление, сопровождающее человека в пространстве и времени. На пороге нашей культуры она проявляется наиболее ярко и резко, а в менее яркой, но все же довольно отчетливой форме проявляется в душевной жизни человека. Кляйнпауль выражает это чрезвычайно метко: «Человек сексуализирует вселенную». Бросив прежде всего взгляд на начатки изобразительных искусств, мы найдем там бесконечное разнообразие изображения половых органов человека то в полускрытом, то в явном и откровенном виде, не оставляющем ни малейших сомнений. Иногда их изображение имеет характер декоративных украшений, иногда же — вазы, чаши, и другая утварь просто-напросто представляет собой разнообразные формы гениталий. В художественной промышленности почти всех народов можно встретить предметы, которые носят даже название по тому образцу, от которого заимствована их форма. Египетская, этрусская и римская утварь — красноречивые свидетели этой всегда живой в народе сексуальной символики. Иначе, действительно, нам пришлось бы закрывать глаза, наблю- дая художественные произведения и утварь некультурных народов. У науки
- 26. 26 все еще большое и плодотворное поле для исследований: наблюдения этого рода разбросаны в нашей литературе и совершенно не приведены в систему» (К. Абрахам. «Сон и миф», с. 25). Столь универсальный факт требует объяснения и отчасти получает его во вскрываемой психоанализом фазе «инфантильной генитальной организации», когда и в коренном аутоэротическом плане, в пробудившемся интересе к объекту устанавливается примат гениталий, интерес к ним, и пользование ими приобретает для ребенка господствующее значение. Точнее было бы говорить здесь не о примате гениталий, а о примате фаллоса. «К сожалению, — пишет Фрейд в своем недавнем «Добавлении к сексуальной теории», — мы можем описать данное положение вещей только у мальчика. Что касается соответствующих процессов у маленькой девочки, у нас нет еще определенного взгляда». И в другом месте: «Известно, что только с наступлением половой зрелости устанавливается резкое различие (отличие) мужского и женского характера, — противоположность, оказывающая большое влияние на весь склад жизни человека, чем чтобы то ни было другое. Врожденные мужские и женские свойства хорошо заметны уже в детском возрасте: развитие сексуальных задержек (стыда, отвращения, сострадания и т.д.) наступает у девочки раньше и встречает меньше сопротивления, чем у мальчика; наклонность к сексуальному вытеснению кажется вообще большей: там, где проявляются частичные влечения сексуальности, они предпочитают пассивную форму. Но аутоэротическая деятельность эрогенных зон одинакова у обоих полов. И благодаря этому сходству в детстве отсутствует возможность полового различия, как оно проявляется после половой зрелости. Принимая во внимание аутоэротические и мастурбаторные проявления, можно было бы выставить положение, что сексуальность маленьких девочек носит вполне мужской характер. Больше того, если бы мы были в состоянии придавать понятиям «мужской» и «женский» вполне определенное содержание, то можно было бы защитить также положение, что либидо всегда — и по природе своей закономерно мужское, независимо от того, встречается ли оно у мужчины или женщины». К этому надо вообще добавить, что наблюдение над действительно существующими мужскими и женскими индивидами «показывает, что ни в психологическом, ни в биологическом смысле не встречается чистой женственности или мужественности. У каждой личности в отдельности за- мечается смесь ее биологических половых признаков с биологическими чертами другого пола...» «С тех пор, как я, — замечает Фрейд, — ознакомился с точкой зрения бисексуальности, — я считаю этот момент решающим в данном случае и полагаю, что, не отдавая должного бисексуальности, вряд ли можно будет понять фактически наблюдаемые сексуальные проявления мужчин и женщин». Таким образом, для психоанализа остается открытым вопрос: что считать специфическим в женском характере. Как складывается
- 27. 27 психофизиологически мир девушки и девочки? Исчерпывается ли он общей с мальчиком и вытекающей из бисексуальности концентрацией детского вни- мания на penise — в данном случае на соответственном ему клиторе и кастрационном комплексом в смысле зависти к penisy, адлеровского чувства малоценности по сравнению с мужской природой, как результате якобы уже проведенной кастрации? И если не исчерпывается, если в чем-то другом нужно искать движущую силу женского развития, то в чем же — спрашивается? Нет ли у девочки, в свою очередь, чего-то, чему слегка завидует мальчик? Совершенно ясно, что ответить на этот вопрос, имеющий первостепенное значение для познания процесса сновидческой фантазии, нельзя иначе, как преступив ту границу психоанализа, о которой выразился Фрейд, что «пока переступить нам не дозволено», и попробовать не глядеть лишь извне, но войти в самый «водоворот нарциссического либидо». Впрочем, и самый термин «либидо» теряет уже всякий смысл, как скоро мы находимся за границей мужской психики. «Сексуальность» — условный термин, имеющий значение для внешнего и пограничного процесса. Искусство, поскольку оно всегда переступало границу и находилось внутри водоворота, не имело другой задачи, как только постигнуть загадку «вечно-женственного». Таково же предельное стремление всякого сновидения. Доселе границы психоанализа роковым образом совпадали с границами психического мира мужчины, «любовная жизнь которого, — признает Фрейд, — только и стала доступна исследованию; между тем как любовная жизнь женщины, отчасти вследствие культурных искажений, отчасти вследствие конвенциональной скрытности и неоткровенности женщин, погружена еще в непроницаемую тьму». В связи с этим самая сущность полового возбуждения и напряжения остается «совершенно неизвестной». Единственным просветом оказывается «химическая теория», в которую и уперлась фрейдовская теория либидо. Согласно этой теории раздражение эрогенных зон вызывает разложение особого, распространенного по всему организму вещества, а продукты его разложения вызывают специфическое раздражение органов воспроизведения или связанного с ними центра в спинном мозгу. Подобное превращение ток- сического химического раздражения в особое раздражение определенных органов наблюдается относительно некоторых ядовитых веществ, извне вводимых в организм. Разложение есть лишь побочный процесс. Органическая химия в настоящее время приходит в выводу, что все вытяжки из тел животных организмов (экзимы) и из растительных (алкалоиды) обладают сильными электрическими свойствами и действуют в организмах в качестве «специфических электронов», то есть заряженных ионов. Есть все основания утверждать, что физиологические жизненные процессы соверша- ются электромагнитным путем, то есть в форме тихих разрядов. С точки зрения современной электрохимии, всякий животный организм можно рассматривать, с одной стороны, как сложную систему замкнутых
- 28. 28 цепей с переменными токами, а с другой, — как электромоторный конденсатор. Опыты Дюбуа Реймона, Аренса, Пфафа, Пассе и др. еще в первой половине прошлого столетия установили теснейшую связь всех органических процессов с электролитическими явлениями. Новейшие изучения катализа и роли его в биохимии, исследования Оппенгейма, Ипатьева, ионная теория возбуждения акад. Лазарева, недавно открытые лучи биологические Гурвича, операция с живой протоплазмой Кравкова — все это склоняет к мысли, что самый акт, называемый жизнью, удобнее всего рассматривать как непрерывные ряды электрических разрядов. Не вдаваясь в подробности, вытекающие отсюда картины взаимодействия органических и неорганических процессов, — отметим лишь один выразительный факт: наименьшую проводимость верхней сухой кожи (эпидермы), которая, впрочем, в разных местах имеет различное сопротивление (наибольшее на руках). Сухая кожа почти такой же изолятор, как стекло и эбонит. Однако проводимость ее увеличивается по мере пропитывания ее влагой. Отсюда становится понятной роль кожи при эротическом возбуждении (как средство заражения или заряжения). Отсюда же ясно, почему роль эрогенных зон пришлось играть, по преимуществу, слизистым оболочкам, сопротивляемость которых E 4-6 раз слабее среднего сопротивления эпидермы. Хотя принципиальное право быть эрогенной зоной (проводником излучения органической энергии) сохраняется за любым участком кожи, но понятно, почему потоки этой энергии устремляются обычно по линии наименьшего сопротивления, понятна заключительная локализация его (в большинстве случаев) вокруг гениталий, в результате — прилив крови к местам оттока, набухание здесь оболочек (эрекция) и, нако- нец, выделение тех или иных видов органической материи (слюны, пота, экскрементов, мочевой кислоты, менструальной крови, семенной жидкости и пр.). Все эти жидкие и твердые выделения несутся в потоке излучаемой энергии, подобно камням и глине, уносимым течением реки. Все они, с одной стороны, сопровождаются чувством удовлетворения, разряжая, разгружая организм, повинуясь его основному импульсу расширения, распространения во вне, с другой же стороны, все они наносят так называемый нарциссический ущерб, нарциссическое повреждение субъекту, поскольку утрачивается связь выделяющего с выделяемым и расширение достигается лишь ценою распада, разложения. Ежедневное выделение фекальных масс, отнятие от материнской груди во время кормления, наконец, самое отделение от материнского организма во время рождения — все это возбуждает в ребенке эмоции и представления, предшествующие и подготовляющие почву для «кастрационного комплекса». (Тут же создаются аналогии, в силу которых он становится понятен потом и маленькой девочке.) Кал, (пропуск), ребенок — все это в бессознательном мышлении синонимы. В основе такой синонимики, помимо всего прочего, лежит смутное ощущение огромной ценности, огромной жизнетворной силы, пронизывающей выделяемые организмом и от организма отделяющиеся
- 29. 29 части. Ребенку хочется удержать их, уберечь, сохранить: он обмазывается калом, дарит его любимым лицам как высшую драгоценность, он стремится как можно дольше удержать в кишках переваренную пищу или в пузыре мочу (отсюда всякое упрямство, настойчивость характера в дальнейшей жизни), мечтает собрать все свои выделения в одно место (отсюда не только всякое скопидомство — кучи Плюшкина, подвалы скупого рыцаря, но и вякая собирающая деятельность человека в природе). Наконец, чтобы не потеряться в «огромности» собираемого «материала», не утонуть в хаосе ве- щей, он старается упорядочить, расставлять собранное по рядам, а это уже зародыш не только болезненной аккуратности некоторых характеров, но и вообще всякой планирующей, организующей «творческой» активности. Дело в том, что ряды, в которых располагаются вещи, всегда есть линии смутно намеченного чертежа, проецированного во вне как отражение органической конструкции всего целого (тела). В этой расстановке, таким образом, живет замысел возвратить организму отбросы, утраты, отделившиеся части (члены), составить когда-нибудь из них опять одно целое, дающее зрительный (зеркальный) эффект. Теперь остается добавить, что, помимо интереса к осязаемым частям выделений, у ребенка вообще, у девочки в особенности, существует не меньший интерес к неосязаемым и почти невидимым (однако, иногда обоняемым) волнам излучаемой энергии. Тут есть связь с анальной эротикой, с выделением газов. Существует сильное желание, чтобы хоть это-то выделение не переходило в отделение, чтобы выделенное (благо оно невидимо) не отставало, не уплывало, но вилось и кружилось вокруг тела. Здесь мы имеем комплекс эмоций-представлений, о примате которого можно говорить в отношении эротического развития девочки. Тесно связанный с пенисом или аналогичным ему клитором и кастрационным комплексом, с определившимся уже эрогенным главенством гениталий, он, однако, в противоположность ему не фиксирован на четко-линейном очертании органа-проводника, и благодаря этому сохраняет неопределенную (и разнообразно определяемую в любой момент) расплывчатость, расширенность, пластичность, постоянную волнуемость своей сферы. Ощущение постоянного переполнения, избытка излучаемой энергии вследствие, очевидно, большего участка слизистой влажной поверхности половых органов создает то настроение, о котором говорит Лермонтов: «Молодая душа в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована». «Жизни некий преизбыток в знойном воздухе разлит, как божественный напиток в жилах млеет и горит... Дева, дева, что волнует дымку персей молодых...» (Тютчев). «Так дева в первый раз вздыхает О чем — неясно ей самой И робкий вздох благоухает Избытком жизни молодой» (Фет).
- 30. 30 «Как будто избыток чего-то, — характеризует автор Анну Каренину, — так переполнял ее существо, что, мимо воли, выражался то в блеске взгляда, то в улыбке...» Специфически женское и есть всегда избыточное, оттого оно и непостижимо в «границах психоанализа», поскольку выходит, что последний совпадает с рамками мужской психики (где основной тон — скудость, недостаток). Сравни лермонтовский диалог дубового листка и молодой чинары. «Так вот он, ум мужчины; тот гордец, не знающий ни трепетных сердец, ни влажного и трепетного зноя, и вдруг я весь стал существо иное...» (Анненский). Чтобы стать этим «существом иным», надо «избыток влажного и розового зноя» разлить в воздухе ТАК, чтобы сфера, в которую он пролит, составила одно целое с телом. Получается атмосферическое окружение, заряженное органическим электричеством, магнитное поле, пространство, пронизанное силовыми линиями. Назовем его магнитным облаком. Это то самое, что поэты называли «душистый круг», «розовый туман», что у Блока именуется «соловьиным садом» («не доносится жизни проклятье в этот сад, обнесенный стеной... и в призывном круженьи и пеньи я забытое что-то ловлю...», «чудный край незнакомого счастья вознесся над убогой мечтой...»). Все подобные эпитеты характеризуют не что иное, как ту атмосферу аутоэротической зеркальности, которая окружает развивающийся женский организм. Женщина находится более или менее непрерывно в том состоянии аутоэротического возбуждения и упоения, которым мужчина заряжается изредка и как бы искоса в сновидческом созерцании, в эротическом или творческом (то есть опять-таки аутоэротическом в указан- ном смысле) подъеме. Женское Я не ограничено так отчетливо, как мужское, от туманного и переливчатого Оно. Лугинская «фантастическая любовь к воздушному идеалу» (музе), которую он не смеет сознательно отождествить с собой и тем окончательно превратиться в «существо иное», другого рода, тяготение к мысленно вычерченному в воздухе (воображаемому) существу — сеть тип женской психической установки. Изначальная бисексуальность увлекает художника на этот путь. Тогда как типично мужским способом надо считать недовольство собой, перенос эротической энергии на материальный осязаемый объект (чему, собственно, и усвоен термин либидо), сексуальная переоценка объекта, связанная с выбором по типу «опора» и комплексом матери, материнской груди. Здесь на объект перенесена главная часть детского нарциссизма. У женщины иное: «у более чистого и настоящего типа женщины» происходит, по описанию Фрейда, следующее: «вместе с юношеским развитием и формированием до того времени латентных женских половых органов наступает усиление первоначального нацизма, неприятно действующего на развитие настоящей, связанной с сексуальной переоценкой, любви к объекту. Особенно в тех случаях, где дело сопровождается расцветом красоты, вырабатывается самодовольство женщины, вознаграждающее ее за то, что социальные условия так урезали ее свободу в выборе объекта. Строго говоря, такие
- 31. 31 женщины любят самих себя с той же интенсивностью, с какой любит их мужчина. У них потребность не любить, а только быть любимыми, и они готовы удовлетвориться мужчиной, отвечающим этому главному для них условию. Значение этого женского типа в любовной жизни людей нужно признать очень большим. Такие женщины больше всего привлекают мужчин не только по эстетическим причинам, так как они обычно отличаются большей красотой, но так же и вследствие интересной психологической констелляции, а именно, не трудно заметить, что нарциссизм какого-нибудь лица, по-видимому, очень привлекает людей другого типа, которые отказались от переживаний своего нарциссизма в полном его объеме и стремятся к любви к объекту: прелесть ребенка заключается в значительной степени в его нарциссизме». Что же позволяет женщине удержать и даже усилить свой нарциссизм с наступлением половой зрелости, которая отзывается в мужчине новым отказом от детской самоудовлетворенности, новым разочарованием в себе? Отсутствие фиксации на очертаниях гениталий, окруженных как бы дымом новым, туманом облака излучений — в первом случае, и усиленная фиксация на этих очертаниях (благодаря эрекционным возбуждениям) — во втором. «Период полового созревания, приносящий мальчику такую большую вспышку либидо, проявляется у девочки в виде волны, касающейся специально сексуальности клитора». В этом устранении инфантильной мужественности источник сексуальной анестезии, весьма длительной у большинства женщин, а также истерии и неврозов. Волна вытеснения связана с ростом и сгущением магнитного облака волнистого окружения, атмосферы аутоэротической зеркальности, столь наглядно изображенной в излюбленном художником сюжете: красавица (обычно спящая или отдыхающая) окружена светящимся роем лиц эльфов, в очертаниях своих обыкновенно отражающих изгибы ее тела. Не нужно думать, что это относится только к красавицам: так же конструируется окружение любой замарашки-золушки, даже какой-нибудь «Лизаветы Смердящей» — «уж то одно, что она женщина, уж одно это половина всего», — как выражается старик Карамазов. Наглядный пример роли нарциссического переноса во всякой сексуальной вспышке дает страсть Дмитрия Карамазова к Грушеньке. С первого взгляда «она не поражает», но затем «грянула гроза, ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все кончено». Что же оказалось микробом заразы? Единственно: изгиб. «Я говорю тебе — изгиб. У Грушеньки-шельмы есть один такой изгиб тела, он и на ножке у нее отразятся, даже в пальчике мизинчика на левой ножке отозвался». Но откуда у Мити такое напряженное внимание именно к этому «изгибу»? Все объяс- няется: «нестерпимый стыд», охвативший его во время раздевания перед судебным следствием... «стал всех их ниже, теперь они уже имеют полное право его презирать... точно во сне, я во сне иногда такие позоры над собой видывал». Самое главное удостоверяет автор — «он сам не любил свои ноги,
- 32. 32 почему-то всю жизнь находил большие пальцы на обеих ногах уродливыми, особенно один — грубый, плоский, как-то загнувшийся вниз ноготь на правой ноге... Уродливость, таким образом, фиксирована на изломе (веском изгибе), искажении все того же искомого изгиба, питавшего нарциссизм ребенка. Интересна зеркальная перевернутость волны притяжения к Грушеньке: большой палец правой ноги — мизинец левой ноги. Таковы всегда «силовые линии» эротического влечения. Божественный какой-то сон Нас всех и манит и тревожит. Кто сам себя любить не может Любить другого осужден... (Минский). Любить себя по-настоящему — так, как хотелось бы — не удается. Предмет любви неуловим. Близок локоть, да не укусишь. Приходится кусать чужой локоть, стараясь вообразить, что это свой собственный. Это и называется переносом. Яркая картина самочувствия мужской компании в увеселительном заведении дана в недавних воспоминаниях М. Горького: «Жутко было наблюдать нечто враждебное в их отношении к женщинам, красотой которых они только что почти благоговейно восхищались. В их сладострастии я чувствовал примесь изощренной мести и казалось, что эта месть вытекает из отчаяния, из невозможности опустошить себя, освободить от чего-то, что угнетало их, уродовало их. Помню ошеломивший меня крик Степахина, он увидел свое отражение в зеркале, его красное лицо побурело, посинело, глаза в исступлении выкатились, он забормотал: «Братцы, глядите- ка! Господи!» — и взревел: «У меня нечеловечья рожа, глядите. Нечеловечья-же братцы»! Схватил бутылку и швырнул в зеркало: «Вот тебе, дьяволово рыло, на!» Он не был пьян, хоть и много выпил». Амбивалентность чувств заложена в основе такого переноса, превращая всякую любовь во вражду, в «поединок роковой». Художественное творчество, как и либидо объекта, связано всегда с жестоким кризисом детского нарциссизма, с глубоким и горьким недовольством своими очертаниями, изгибами тела и линиями лица. Лермонтовского Лугина «преследовала постоянная идея, мучительная и несносная. Он был далеко не красавец — это правда, однако, в нем не было ничего отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным. Но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви и стал смотреть на женщин как на природных врагов своих, подозревая в их случайных ласках побуждения посторонние». Как раз «подобное расположение души» и обусловило, по мысли автора, ту «фантастическую любовь к воздушному идеалу», которая развилась у героя. Не приводя множества примеров, которыми можно было бы пояснить этот процесс, мы можем определить психику художника как особое острое сочетание двух редко одновременно встречающихся качеств: с одной стороны, мужской неудовлетворенности своим очертанием (то есть отражением его в обыкновенных зеркалах), с другой — женской упоенностью нарциссически зеркальной атмосферой магнитного облака
- 33. 33 органических излучений, пристрастием к единственному фантастически идеальному отражению. Интересны «облачные» самосознание и самоутверждение поэтов, любящих кутать свои черты «в клубящихся тума- нах стиха». «Я ведь только облачко, полное огня» (Бальмонт); «я... не мужчина, а облако в штанах» (Маяковский) и т.п. Облако, оболочка, облачение, одеяние, одежда, раскраска (татуировка, грим), маска, одежда лица; в расширенном плане — здание, дом, жилище, храм, — все это для первобытного искусства способы реализовать, охватить, оценить, примагнитить к телу драгоценное воздушное окружение. Искусство всегда стремилось построить такое телесное отложение или отражение, которое бы не стало, или не скоро бы стало отбросом: дать перекипающим за черту кожи волнам энергии такое выражение, которое не вело бы их к выбросу во «внешнюю тьму», в чужую среду, не было бы испражнениями (опустошением) организма. Только строго упорядоченные, организованные, конструированные ряды отражений и оболочек сохранили право на существование. Обонятельные, слуховые и, наконец, зрительные восприятия явились на помощь осязательным и вкусовым как усовершенствованные способы наступления Я на «мир», превращения внешнего во внутреннее. Все сказанное относительно магнитного облака характеризует то, что Фехнер в своей психофизике назвал «полем действия сновидения», а Фрейд в своем толковании сновидения объяснил с помощью понятия «психической локальности», рисуя при этом инструмент, служащий целям душевной деятельности, чем-то вроде микроскопа, фотографического аппарата и т.п. У этого аппарата два конца: чувствующий (воспринимающий) и моторный. Направление всякой психической деятельности идет от первого ко второму. При этом Фрейд старается «избегнуть искушения определить психическую локальность в анатомическом смысле», хотя аналогичный препарат известен из анатомии. Действительно, здесь локальность иная, локальность подвижного динамического четырехгранного пространства, где четвертым и основным измерением является время, но ведь это же и есть единственное реальное пространство для новой физики. Включение анатомической локализации в психическую является очередной задачей психофизики. Покуда, базируясь на данных рефлексологии, на таких научных гипотезах, как психодинамика Штаденмауэра или теория нервной энергии Бекнева, мы можем утверждать, что всякое восприятие энергии, усиливаясь, вызывает со стороны организма реакцию в виде выделения энергии, а это уже есть форма воздействия, всякое же воздействие на внешнюю среду стремится в конечном счете к воспроизведению себя в ней. Итак, всякое восприятие есть начало воспроизведения. Значит, всякий орган восприятия может или мог бы стать при известных условиях органом воспроизведения. Отсюда понятен исключительный интерес и специальное сосредоточение внимания как сновидения, так и вытекающего из тоже бессознательной деятельности фантазии — художества к тем органам, которые также, будучи органами всяческих выделений, в то же время зовутся органами воспроизведения, которые умеют, выделяя, воспроизводить.
- 34. 34 У них, у этих органов, приходится чему-то учиться остальным. Сновидение и есть не что иное, как школа, переход с языка эротических, то есть утонченных, усиленных до крайней степени кожно-мускульных- осязательных ощущений на язык других восприятий, главным образом — зрительных. Символика подсознательного мышления, легшая в основу искусства, есть веками выработанный, но еще большими проблемами страдающий словарь для такого перевода. Все виды искусства пытаются так или иначе реформировать, освежить и уточнить словарь, чтобы дать перевод подлинника по возможности без грубых промахов и искажений. Что до конца этой работы далеко — ясно из того, что воспроизведение живых организмов происходило и происходит у человека, как и в животном мире, без участия высших восприятий. Основанное же на последних ис- кусство создает пока лишь мертвые подобия, иллюзорные подделки и, в лучшем случае, символические проекты живых существ. Сооружение зрительных конструкций было бы большим шагом вперед по намеченному пути, шагом, целиком вытекающим из осознания всего уже достигнутого. Найти переходные ступени, создать лестницу аналогий между органами восприятия и органами воспроизведения (фаллосом) — такова задача, вокруг и около которой вертится бессознательное мышление, и вслед за ним — сновидение и искусство. Эта проблема поставлена еще инфантильным исследованием. Переходным мостом здесь является представление облака. Перепрыг через пропасть, отделяющую мужское от женского, для зрения состоит в таком видоизменении мужских гениталий, которое сделало бы их похожими на облако, пластично отпечатлевающее любые контуры и изгибы линий. Облако, оболочка, облачение, одеяние, одеяло, покрывало, покров, плащ, плащаница, пелена, шинель, пальто, багряница (гоголевская красная свитка) и т.п. — вот группа фаллических символов, подчеркивающих ощущение расширенного, распространенного, разветвившегося волокнами и тканями токов в намагниченную атмосферу, окружение тела распростертого (распятого) мужского органа. «Очень трудно понять, — замечает Фрейд в своих лекциях «Введение в психоанализ», — почему шляпа и пальто приобрели такое символическое значение, но последнее не подлежит ни малейшему сомнению». Трудность тут существует для психоанализа постольку, поскольку он совпадает с границами мужской психики. Она исчезает, если иметь происходящее здесь в силу бисексуальной природы человека отождествление мужского образа с основным комплексом, определяющим конструкцию женского организма. Там органы воспроизведения глубоко запрятаны внутрь, а наружу выведены лишь его излучения, неопределенно очерченные силовые линии и «волны», «одевающие» окружающее тело. Как известно, один из способов, каким сновидение изображает связь двух предметов, есть превращение одного в другой. Это самый из блестящих зеркальных фокусов сновидческого аппарата. Над механизмом его задумывались многие наблюдатели.
- 35. 35 «Иногда, — размышляет Достоевский, — снятся странные сны, невозможные и неестественные. Пробудясь, вы припоминаете их явно и удивляетесь странному факту. Вы помните прежде всего, что разум не оставлял вас в продолжение всего сновидения, вспоминаете даже, что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во все это долгое время, когда вас окружали убийцы, когда они с вами хитрили, скрывали свое намерение, обращались с вами дружески, тогда как у них уже было наготове оружие, и они лишь ждали какого-то знака. Вы вспоминаете, как хитро вы, наконец, их обманули, спрятались от них; потом вы догадались, что они наизусть знают весь ваш обман и не показывают вам только вида, что знают, где вы спрятались. Но вы схитрили и обманули их опять. Вы все это припоминаете ясно. Но почему в то же самое время разум ваш мог помириться с такими очевидными нелепостями и невозможностями, которыми, между прочим, был наполнен весь ваш сон? Один из ваших убийц на ваших глазах обратился в женщину, а из женщины — в маленького, хитрого, гадкого карлика, и вы все это допустили тотчас же как совершившийся факт почти без малейшего недоумения, а именно — в то самое время, когда, с другой стороны, ваш разум был в сильнейшем напряжении, высказывая чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику... Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей и заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто существующее и всегда существовавшее... впечатление ваше сильно, оно радостно или мучительно, но в чем оно заключается — вы не можете ни по- нять, ни припомнить...» Автору «Идиота» на страницах которого имеется это рассуждение, слишком хорошо был известен закон превращаемости образа не только в сновидениях. Какая пропасть между героем этого романа в том виде, как он задуман был в первых редакциях — эгоист, сладострастник, насильник, «самость бесконечная» — и «святым» князем Мышкиным! И, однако, во всех этих волшебных изменениях одно остается неизменным — какое-то одно очертание лица «Идиота» и лица столь наглядно-выпукло автопортретного. Не то ли самое происходило и с чеховским «человеком, подающим надежды», и его сюжетами и темами вокруг мучительной мыслеформы «женщины-змеи»? Горский А. К., Сетницкий Н. А. Сочинения. М., 1995, с. 195–219
- 36. 36 Фрейдизм и марксизм1 А. Б. Залкинд 1. СХЕМА УЧЕНИЯ ФРЕЙДА2 Основные черты учения Фрейда: а) сексуализм: сексуальное начало, как питающий источник большей части психических построений; б) активизм: психические процессы (ассоциации, сны, грезы, галлюцинации и пр.), как моменты органической, боевой активности нормальной и болезненной (отбор, вытеснение); в) психодетерминизм: исчерпывающая закономерная обусловленность всех психических процессов; г) комплексология: учение о психическом опыте как ассоциативных сгустках, объединенных общностью основной эмоции; д) учение о сублимации: сублимация — творческое превращение половой энергии, неизрасходованной па непосредственные половые цели. Всякий творческий процесс — в той или иной степени результат сублимации. Для Фрейда (если расшифровать его, не слепо следуя его методологии, а переводить его понятия на общий психофизиологический язык) характерен синтетический, целостный подход к психическому аппарату: сновидения, сомнамбулизм (так называемое «подсознание») фактически не отделены у него от работы «ясного сознания», подчиняясь одним законам (по Фрейду, между обоими видами психики существует грубая «качественная» разница, по фактически им доказано, помимо его воли, как раз обратное, и доказано глубоко убедительно). Основные методы исследовательского и лечебного подхода Фрейда к психическому аппарату (психоанализ): а) «катарсис» (отреагирование), б) «сублимация», сводятся к освобождению задержанной (заторможенной) в больных комплексах нервно-психической энергии. Так называемые физиологические и психические выявления организма для Фрейда односущны: рвота, боль пли «психический образ», по Фрейду, в одинаковой степени выражают работу «комплекса» (психофизиологический монизм, несмотря на то, что методически Фрейд часто ведет себя, как чистый дуалист). Наследственность, по Фрейду, создает главным образом предрасположения. Основное богатство психического опыта — результат соотношения врожденных «зон» и влечений Я с окружающей средой, причем 1 Сжатое изложение доклада, сделанного на пленуме Института Коммунистического Воспитания. Автор понимает, что для лиц, незнакомых с фрейдовским учением, приводимые здесь соображения, звучащие, в виду их сжатости, как утверждения, не представляют серьезной ценности, и поэтому он обязуется печатно детально проработать этот вопрос в особом труде. Сейчас же, в виду чрезвычайной популярности фрейдовской теории и обилия выкидываемой на рынок фрейдовской литературы, автор считает себя в праве, хотя бы в сжатом виде, сделать непосвященным предостережение. 2 Схема излагается не описательно, а критически, в том истолковании, которое дается учению Фрейда пишущим эти строки
- 37. 37 гибкость организма и влияние приобретенного им социального опыта сильно меняют врожденные уклоны. В истории культуры (мифология, искусство, религия и пр.) одним из крупнейших исходных моментов для Фрейда является половой момент вообще и резкое обособление половой индивидуальности от массы в частности (противопоставление): общественная активность («агрессивность», «властолюбие»), как проявления «фатеркомплекса» (отцовский комплекс — один из сложных корней ‚человеческой эротики, создающий своеобразную боевую одичалость). 2. ФРЕЙДИЗМ И БИОЛОГИЯ Фрейд первым из биологов действительно последовательно и до конца поставил волюнтаризм Вундта, панактивизм Джемса и прочие активистические построения психологов-метафизиков на биологический фундамент; его биоанализ психики по глубине метода и богатству фактов — откровение в биопсихологии, до Фрейда представлявшей неорганизованную эмпирику. Непревзойденная (еще мало известная даже в кругах ученых специалистов) заслуга Фрейда в том, что он первый, на языке психологических понятий (комплекс, вытеснение, катарсис, сублимация, детерминизм), выявил целиком лишь позже полностью развившееся учение об условных рефлексах, представляющее собою сейчас революционнейший этап в развитии физиологии (психологии тоже1 ) Фрейдовская методология позволяет углублять и уточнять психофизиологические, изыскания рефлексологов в неизмеримо большей степени, чем это посильно сейчас для рефлексологических методов (к сожалению, большие наши рефлексологи с фрейдизмом мало знакомы). Учение о комплексах и сублимации властно расковывает фатали- стическое представление о наследственности, приписывая огромное организующее (и дезорганизующее) влияние непосредственному социальному опыту организма (в полном согласии с учением об условных рефлексах). Понятие о комплексах с односущным «психологическим» и «физиологическим» содержанием — наилучший и исторически первый путь для незыблемого утверждения психофизиологического монизма (учение о рефлексах развернулось позже). Хотя полисексуализм (или пансексуализм) фрейдовского учения не подтверждается ни биогенетически, ни в современных биологических проявлениях, однако, во-первых, он не обязателен для остальных сторон его теории (временно сыграв огромную методологическую роль в глубочайших 1 Об этом автор высказался еще в 1912 г. в Московском обществе невропатологов и психиатров (психиатрические пятницы): доклад «Фрейд в свете клиники».
- 38. 38 синтезирующих построениях Фрейда), во-вторых, этот элемент фрейдовского учения чрезвычайно ценен хотя бы в том отношении, что, если ему не удалось обосновать подавляющее сексогенное содержание психики, все же он дал резкий и плодотворнейший толчок для уяснения сложной сексуальной всепропитанности психического аппарата («закон общего эмоционального знака» — Рибо). Вскрыв биопсихологическую закономерность «бессознательного», Фрейд, как никто, способствовал действительной расшифровке гипнологической и основных психопатологических проблем (передовая психиатрическая школа современности Блейлера в основном обязана своими работами толчкам, полученным от фрейдовского учения, так же как и учения больших современных характерологов — Адлера, Кречмера). 3. ФРЕЙДИЗМ И МАРКСИЗМ А. Достоинства фрейдизма с марксистской точки зрения Биологические заслуги фрейдовского учения, ценные с точки зрения исчерпывающего материалистического метода в биологии, одновременно ценны и для марксизма как исчерпывающей общематериалистической системы («психический процесс как органическая, биологическая активность»; фрейдизм и психофизиологический монизм; фрейдизм и учение о рефлексах; роль фрейдизма в современной психопатологии). Ослабление у Фрейда примата, наследственности, в сравнении с приобретенным социальным опытом1 (в согласии с учением об условных рефлексах), является плодотворнейшим методологическим преддверием для диалектического изучения биологической изменчивости человека и для построения оптимистической революционно-марксистской педагогики, в противовес господствующим статически-педологическим течениям, базирующимся целиком на реакционнейшей так называемой биогенетической теории и на учении о конституциях в биопатологии. Психический пандетерминизм Фрейда — лучшее противоядие против учения о свободе воли. Широко социально-биологически, то есть марксистски расшифрованное учение Фрейда о сублимации (сублимация, как социально- творческие превращения низшей биологической энергии; катарсис — освобождение связанной биологической энергии в процессе плодотворного социального контакта с психоаналитиком) открывает богатейший простор для воспитания активных коллективистических навыков, пропитывающих собою глубочайшие элементы всех биологических функций человека. 1 Хотя и неправильно им понятый, как почти исключительно сексогенный, даже такой подход не мешает все же Фрейду глубоко раскрыть богатейшую социогенную природу человеческого опыта, то есть и общебиологических функций.
- 39. 39 Учение Фрейда о «бессознательном», устанавливая, помимо желания автора, ясные законы для социальных корней «психического отбора», сильно способствует детальному изучению классового «сознания» и «подсознания» (классовой психофизиологии) и уяснению классовых механизмов творческого процесса (в области науки, искусства, общественной деятельности и пр.); одновременно анализ «бессознательных» корней как ‚внушаемости, так и других проявлений социальной зависимости открывает чрезвычайно ценный методологический путь для изучения ряда сложных моментов социальной психологии (коллективной рефлексологии). Б. Недостатки и опасности фрейдизма с марксистской точки зрения Опаснейшим с марксистской точки зрения в учении Фрейда является его полисексуализм. Подкапываясь под все инстинкты и биологические функции, тщась быть почти главным для них стимулом, сексуализм Фрейда создает богатую почву для идеалистических прорывов и для возрождения умирающего витализма, но уже в новом и весьма богатом, то есть и особенно опасном, заманчивом облачении (которое, к сожалению, и увлекает подавляющую часть так называемых чистых «фрейдистов»). Одновременно сексуализм Фрейда, логически проведенный до конца, фактически, в подходе его к историко-социальным явлениям, насыщен чрезвычайно опасным эклектизмом, с сильным метафизическим душком: история культуры, как главным образом самораскрытие первичной человеческой сексуальности в ее столкновениях с средой; идеологические напластования, религия, этика, социальные чувствования, как главным образом отражения и преображения протестующей сексуальности (почти сексуализированный гегелевский идеализм). Сексология Фрейда, приводя к установлению понятия о сексогенном психизме, создавая теорию о сексуальных комплексах, о ‚сексуальной природе «бессознательного» и пр., помимо желания творца. учения, несмотря на весь его фактический психофизиологический монизм (которого, быть может, он и сам не сознает), логически приводит к возрождению им же нечаянно упраздненного чистого психологизма, хотя бы и слегка завуалированного «биологической» теорией сексуальности. Кроме сексуализма Фрейда, опасные, но, к счастью, фактически не убедительные моменты содержатся и в отдельных частях его активистического подхода к психическому процессу. Комплекс, как агрессивно обособляющаяся психическая единица., преображающая внешний мир по своему произволу, противопоставляющая индивидуума среде (комплексная бронировка), биологически пытается реставрировать понятие о примате личности над социальной средой, несмотря на, казалось бы, вполне убедительные, им же собранные, данные об обратном. В этом вопросе Фрейда хорошо исправил А. Адлер. Чисто фрейдовский психоанализ как лечебный и педагогический метод, являясь интимным контактом между аналитиком и объектом, базируя
- 40. 40 первичный целебный эффект на личном влиянии, а не на реорганизующем давлении социальной среды, может часто приводить к утонченному самоуглублению и обособлению анализируемого, создавая взамен ‚ болезненного индивидуализма психоаналитический индивидуализм, в ущерб широкому социальному развертыванию личности («психоаналитические переносы», «психоаналитическая жвачка»).’ Выздоровление от «чистого психоанализа», к сожалению, фактически большей частью либо представляет собою результат утонченнейших косвенных внушений (мнимое здоровье, рвущееся под более’ сильным ударом социальной среды, либо наступает в результате создавшегося благоприятного соотношения социальных обстоятельств, в построении которых психоанализ в лучшем случае мог сыграть лишь косвенную и второстепенную роль. Утонченно индивидуализированный психоанализ должен быть в основе заменен коллективной психотерапией. Все это не отнимает у психоанализа чрезвычайно серьезного его значения, как метода теоретического изучения психофизиологии человека, но только в руках очень опытного специалиста, широко общепсихологически образованного, снабженного должным науч- ным противоядием. Построение «фрейдовской педагогики», создание особых баз для специально фрейдовского изучения и воспитания детей является практически рискованным и теоретически необоснованным предприятием. Концентрируя внимание взрослых на несуществующих, почти исчерпывающих» сексогенных корнях детской психики, приводя к натянутым обобщениям по поводу притянутых за волосы фактов, такой эксперимент может повлечь за собой и неправильный, зачастую опасный, методический подход к воспитанию. Однако изучение сексуальности «по исправленному Фрейду» должно стать чрезвычайно серьезной частью общепедологических изысканий, — конечно, в общей, а никак не «фрейдизированной» обстановке. 4. ВЫВОДЫ Несмотря на гигантские внутренние противоречия учения Фрейда, его метод дал возможность глубоко раскопать подспудные психофизио- логические богатства человека, установить в них закономерность и раскрыть их социально-приобретенные элементы. Для социальной биологии и для психофизиологической диалектики Фрейд представляет, при всей его идеологической двуличности, неисчерпаемую ценность. Этой соблазнительной идеологической двусмысленностью между прочим и приходится объяснять тот факт, что двое талантливейших учеников Фрейда — Адлер и Юнг, сильно развившие и отчасти исправившие его учение, откололись от него в дальнейшем, причем Юнг, к сожалению, ушел, видимо, совсем от чисто фрейдовских экспериментов, Адлер же откровенно отклонился к бергсоновскому идеализму, наложившему неизгладимый
- 41. 41 отпечаток на во многом очень интересные его биопсихологические работы (о характерах). Сейчас существует целая фрейдовская школа, состоящая идеологически из очень пестрых направлений, внимательно прорабатывающая его методом ряд кардинальнейших проблем психологии, психопатологии, педагогики, социальной психологии, искусства, истории культуры и пр., при чем, даже учитывая чрезвычайную идеологическую путаницу в головах этих представителей фрейдовской индолы, на материалах их изысканий марксизму очень и очень внимательно следовало бы оста- новиться1 . В частности, для марксистской психофизиологии имеется очень многое, что следовало бы почерпнуть из учения Фрейда (ведь и Гегель, хорошо исправленный, недурно помог созреванию диалектического материализма). Социогенетическая биология, в соединении о учением о рефлексах, при осторожном использовании ценнейшего ряда фрейдовских понятий в отдельных его экспериментальных методов, создаст гигантский вклад в биомарксистскую теоретику и практику, на что и указывалось выше2 . Красная новь, 1924, № 4, с. 163–186 1 Выпускаемая сейчас фрейдовская (и вообще психоаналитическая и психотерапевтическая) литература, несмотря на всю ее теоретическую ценность, в данный момент борьбы за идеологический синтез, за диалектически- материалистическое миропонимание должна быть обязательно забронирована противоядием — предисловиями и соответствующими примечаниями; налицо же вместо предисловий — поверхностная апология (не говоря уже о серьезной вредности однобокого практического применения этой литературы). 2 Идеологический и биологический анализ элементов фрейдовского учения и соотношений последнего с другими областями знания в вышеприведенной постановке целиком на ответственности автора. Классовая природа этого учения (метания между материализмом и метафизикой, между индивидуализмом и коллективизмом, между социальной динамикой и биологической (половой) гипертрофией) ясна, полагаю, всякому чуткому марксисту. Принимать его в известной степени можно, но с большими и продуманными предосторожностями. Огульная апология Фрейда идеологически очень опасна, особенно сейчас, при сверхувлечении половыми проблемами.
- 42. 42 Фрейдизм и марксизм1 В. А. Юринец Распад современной буржуазной культуры происходит под флагом привлекательного эстетизма и стилизации. Так бывало, впрочем, всегда на гранях двух исторических эпох. Плотин эстетизировал и стилизировал Платона, идея рая Магомета нашла свое «прекрасное» выражение на стенах зала Кусейр-Амры, потеряв вместе с тем весь свой исторический пафос, превратившись в ненужную игрушку чисто эстетического наслаждения... Буржуазия уже вошла в этот фазис. Его приближение заметил, между прочим, и Шпенглер, чуткий исследователь ее разложения и сладострастный его апологет. Есть, однако, одна отличительная черта современного буржуазного эстетизма. Он драпируется в научный костюм, исходит из «последнего слова науки». Зародыши этого эстетизма были уже раньше налицо. Мы помним все, как причудливо переплеталась Геккелева натурфилософия с Геккелевой поэзией, как многоцветные амебы его великолепных атласов вдруг превращались в аргументы в пользу абсолюта Шеллинга, — обстоятельство, которое странным образом заставило Жоржа Сореля говорить об элементах «пролетарского искусства» у архибуржуазного Геккеля. Выражением этой эстетизирующей тенденции является и фрейдизм. Это утверждение может показаться парадоксом. Является же теория Фрейда последним словом современной психиатрии, подтверждается же она многими опытами и т.д. Но это только внешность. Несомненно — научные истины, которые на одном, ограниченном участке науки останутся действительным вкладом в нее, успели обрасти различными посторонними элементами, выросли в широкое миросозерцание, которые у Фрейда, и особенно у его учеников, давно перешагнуло свои прежние рамки и превратилось в несвязный конгломерат из различных течений буржуазной философии. Чего только нельзя найти, перелистывая странички Фрейда и фрейдистской литературы! Осталось в тени строгое, сосредоточенное, несколько скептическое (в духе присущего науке боевого скептицизма) лицо Шарко, учителя Фрейда; мы переносимся в полумрак современной Walpurgisnacht, с ее дикими криками, беспорядочными танцами. В этом хороводе подают друг другу руку и человеконенавистник Шопенгауэр, который свой буржуазный сплин драпировал в облачения философии Упанишад, и офицер Гартман, концом шпаги чертивший на волнах бессознательного контуры прусской логики, и 1 Редакция считает одной из очередных задач марксистской философии критику Фрейда и фрейдизма с точки зрения диалектического материализма. — Прим. ред. журнала «Под знаменем марксизма».
- 43. 43 Ницше, и Бергсон. Поистине вавилонское столпотворение! Впрочем, оно только выражение глубокого исторического разума. Является же смыслом всей истории, по учению Ранка, переход всего человечества в состояние истерии1 . Когда-то Маркс говорил, что современный буржуа даже не подозревает, что у его колыбели стояли великие тени древнего Рима. Совре- менный фрейдист заклинает и вызывает эти тени. Но определенные линии их громадных здоровых фигур он заменяет тонкими арабесками их трещин... Впрочем, эстетизм, который мы встречаем в фрейдизме, вполне понятен. Родившийся в Вене и Будапеште, в стране, находящейся на окраине истории капитализма, не пропитанной традициями героической эпохи буржуазии, процветающей без больших усилий па спинах высасываемых до мозга костей кроатских, словенских, далматских и сербских мужиков, фрейдизм многое воспринял от духа этого капитализма. Для него мрачная драма истории превращалась в водевиль венской Gemьtlichkeit, для которой все возможно. Здесь под покровом «гениального синтетика», христианского социалиста Луэгера, который старался слить воедино и синюю блузу рабочего заводов Wiener Neustadt и зеленую с перышком шляпу габсбургского Alpenjдgera, образовать одну симфонию из тактов революционной рабочей песни, рассказывающей о тайнах капитализма, и из тупоумного «Jodeln» альпийского крестьянина, — проводились разные «синтезы». Тут соединял Эвальд Авенариуса с Бёме, и вещий «ренессансовый» Бар набрасывал на плечо ницшеанского сверхчеловека вуаль рококовой грациозности. Тут Альтенберг превращал мир в пестрый по- движной калейдоскоп из цветных камешков воображения, полагая, что терраса кафе является подножьем истории, тут — кузница различных «марксистских» синтезов, которые кончились еще до войны полным крахом австрийской социал-демократии. Над ними всеми витает тень болезненно-гениального Вейнингера, последнего рыцаря-романтика и искателя blaue Blume, растущих на трясинах буржуазного декаданса. Сегодня фрейдизм в соединении с препарированным ad hoc вагнерьянством, с реставрированным идеализмом, подкрашенным на со- временный лад; проникает незаметно в лагерь марксистов, пока несмело, вкрадчиво нащупывая почву. Но все-таки его влияние уловимо для каждого, кто хорошо знаком с духом фрейдизма. Это его влияние — тон изящества, симпатичная «urbanitа», свойственная стилю столь многих западных коммунистов. У нас фрейдизм проникает в марксистский лагерь в очень упрощенном, грубоватом виде, причем мысли Фрейда сливаются с... рефлексами Енчмена. До сих пор незаметно в нашей марксистской литературе следов более 1 У народов обнаруживается все сильнее женская сторона; активная сначала, культурная деятельность уступает место чисто пассивной бездеятельности, обусловленной большими размерами сексуального вытеснения. Hарод превращается в женщину в невротическом смысле этого слова; а так как культурные cpeдcтвa раздражения, наконец, исчерпываются, усиливаются внутренние сопротивления, пока народ не станет истеричным. Rank O., Ansдtze zu einer Sexualpsychologie, с. 49.
- 44. 44 глубокого изучения Фрейда, широкого знакомства с фрейдистской литературой; все защитники Фрейда не вникают в сущность его учения, цепляются только за слова, находя таким образом все новые «подтверждения» правильности философских основ марксизма. Настоящая статья — чисто критическая — предполагает знакомство с основами учения Фрейда. I Помнится год тому назад т. Троцкий писал в «Правде» приблизительно следующее. Что опыты Павлова ведут к материализму, подтверждают его, — это несомненно для каждого, кто хотя до некоторой степени знаком с Павловым и с основами материализма. Но до сих пор еще нельзя ответить на вопрос, согласуемы ли с материализмом теория Эйнштейна1 или учение Фрейда. Относительно фрейдизма я осмеливаюсь это отрицать и постараюсь доказать свое утверждение. Конечно, на первый взгляд Фрейд кажется материалистом. Он ссылается всегда на физиологию, все время толкует о нервных процессах и т.д. Но мы не должны увлекаться внешней скорлупой учения, научного жаргона, которым автор пользуется. Современный идеалист Теодор Циен является автором психологии написанной с чисто физиологической точки зрения, он же и автор физиологической теории познания. Никто не проводит с такой последовательностью, с такой научной «жестокостью» ее идей на каждой странице своих книг, причем эта последовательность доводит его порой до прямо чудовищных упрощений и схематизаций. Никто другой, как Беркли, был творцом «физиологической» теории возникновения идеи пространства. Но известно, кем был Беркли. Между тем, не нужно копать глубоко, чтобы убедиться, что Фрейд не является материалистом. Это откровенно заявляют фрейдисты: один из» самых рьяных учеников Фрейда, Аврель Кольнай, заявляет откровенно в своей книге «Психоанализ и социология. Этюды по психологии масс и общества», на с. 8: «Вместе с тем он (то есть психоанализ. — В. Ю.) является освобождением от материалистического обскурантизма предыдущих десятилетий». И Фрейд и фрейдисты не признают даже психофизического параллелизма. Наоборот, они вменяют Фрейду в большую заслугу, что он в противовес прежним психоневрологам ищет причин нервных заболеваний не в физиологических, а в чисто психических изменениях. Это исходный пункт фрейдизма, повторяемый много раз различными авторами (Ср. Фрейд, По ту сторону принципа удовольствия, с. 28). Упомянутый выше Кольнай говорит: 1 В противовес утвердившемуся в марксистском лагере другому мнению, я уверен, что теория Эйнштейна подкрепляет диалектический материализм. В соединении с топологией, чисто качественной ветвью математики (ср.: Kйrйkjбrtу, Vorlesangen ьber Topologie, с. 1), она может дать основы для действительно современной диалектики природы. В ближайшее время я постараюсь изложить в статье основы этой диалектики. Здесь я хочу только указать, что благодаря классическим работам Брувера — теперь мы уже близки к образованию теории аналитических функций без метрических понятий (Kйrйkjбrtу, с, 15), с применением только свойств непрерывности.
- 45. 45 «Прежде всего имеет значение то обстоятельство, что психоанализ явно афизиологичен, одним из главных его источников является отвращение к жонглированию с «нервной системой» (в кавычках, как у Авенариуса) и с «центрами» (Кольнай, там же, с. 6) Фрейдизм признает чисто психическое действие, даже «действие на расстоянии» психических элементов. «Психоанализ помогает нам открывать социальные отношения уже благодаря тому, что он представляет себе душу чисто динамически, как систему действий, не связывая ее с физиологическим истолкованием исследуемых процессов. Где, однако, вся сущность заключается действии, там должна иметь решающее значение та часть нашей среды, которая связана с единичной душой не физиологически, а путем действия на расстоянии, пу- тем действий» (Кольнай, с. 37–38). В одной из последних, зрелых, систематических своих работ, в книге, под названием. «По ту сторону принципа удовольствия» («Jenseits des Lostprinzips», с. 8), Фрейд говорит: «После тяжелых механических потрясений, вследствие столкновения поездов и других несчастных случаев, связанных с опасностью для жизни, образуется состояние, которое получило название травматического невроза. Страшная, только что кончившаяся война была причиной большого количества таких заявлений; она положила конец попыткам сведения их к органическим повреждениям нервной системы, происшедшим путем действия механических сил», причем для подтверждения он ссылается на мнение Ференци, Зиммеля и Джонса. Тут ясно противопоставляются, с одной стороны, механические потрясения и, с другой, — независимость заболеваний от возможных органических повреждений, которые имеют свой корень в механических действиях (ср. кроме того: «По ту сторону принципа удовольствия», с. 23–31). Но все-таки Фрейд не отрицает, что психическое имеет некоторые точки опоры в физиологическом, в мозге. Но какого характера эти точки опоры? Через всю историю идеализма проходит красной нитью взгляд на зависимость психического от физического, взгляд неуловимый, который имеет всю видимость материализма, но который в сущности его отрицает. Это — взгляд, утверждающий, что физиологический мир является средой, стесняющей полное развертывание психического. Психическое представляется каким-то вневременным, внепространственным резервуаром психических потенций, которые должны приспособляться к твердым стенкам мозга и благодаря тому обнаруживаются только «частями, в исковерканном виде. Этот взгляд мы находим у Платона, в более ясной и продуманной (или, вернее сказать, более рельефно мифологизированной) форме у Плотина. Гениально подметил его Ламетри в полемике с бреславским доктором Траллесом, причем он окрестил этот взгляд названием «superstitio Tralliana» (суеверием Траллеса). В наше время самым блестящим «его приверженцем и виртуозом является основоположник современного спиритуализма Бергсон и... Фрейд. Все мы помним блестящие страницы «Материи и памяти», где
- 46. 46 Бергсон пользуется всей богатой литературой по современной психопатологии, чтобы отбросить, наконец, ее основы. Психическое у него не является функцией физиологического; психическое выступает на сцену, как доказательство человеческой свободы в тех точках, где прорывается связь механических процессов, тогда, когда перед нами стоят различные возможности выбора, так сказать, «в прорехах» физиологии, когда останавливается плавное течение физиологического процесса. Из того факта, что физиологический ряд сопровождает психический, нельзя выводить, что физиологическое объясняет нам психическое; такая точка зрения была бы pars pro toto; она равнялась бы мысли, что винт является пароходом потому, что без винта пароход не движется. В случае ощущений существует еще некоторое соответствие между психическим и физическим. Но ощущения находятся на грани психического и физического, они появляются психическими функциями par excellence. Память — это выражение духа — уже независима от мозга. Мозг может быть поводом, но не причиной ее возникновения. Чем дальше в глубину духа, мы опускаемся, тем яснее и оче- виднее становится его самостоятельность. Существует много «плоскостей» (les plans) в человеческой жизни. Только в плоскости обычного действия душа зависит от материальных процессов, в других плоскостях они являются только преградой для обнаружения всех «ее богатств. Фрейд тоже не довольствуется обычной психологией; его не интересуют те области души, которые, соприкасаясь всегда с нашим материальным и социальным миром, успели уже стереть все специфическое. В противовес психологии он хочет построить новую науку, метапсихологию, открывать тайны душевных миров, в сравнении с которыми наш обычный мир «ассоциативной», вульгарной психологии является только бледным и бедным отблеском. Последнее время Фрейд стал с большим усердием работать именно в области метапсихологии, которую он сам иногда называет в высокой степени спекулятивной и мистической («По ту сторону принципа удовольствия», с. 21). При этом концепции Фрейда и Бергсона почти совпадают. Ощущениям Бергсона, этим «нечистым» проявлениям духа, соответствуют у Фрейда «влечения» (Triebe), находящиеся на грани психического и физического, являющиеся физическим в психическом; эта смесь истолковывается фрейдистами, как «падение» психического, его «раз- ложение» (Ранк, Художник, с. 49, 65), совершенно в духе ослабевания Бергсона. И у Фрейда фигурирует теория «прорех» в смысле Бергсона. Психические образования не обнаруживаются, если в организме образуются раны1 ; следовательно, когда психическое не принуждено «напирать», сгущаться, нагромождать все возможности выбора, чертить изначальный план всех возможных путей своего истечения, а может «разрядиться» без 1 «В травматическом неврозе интересны две черты, которые наводят на размышление: во первых, то обстоятельство, что главная причина их возникновения кроется в моменте испуга, страха, во-вторых, что возникшие одновременно повреждения иди раны в большинстве случаев противодействуют возникновению невроза» («По ту сторону принципа удовольствия», с. 8–9).
- 47. 47 препятствий. Такой смысл имеет фрейдо-брейеровское деление психических энергий на связанные и свободные, то есть такие, которые разряжаются автоматические самые низкие ступени сознания (W.-Bewusstsein) — это свободные энергии, совершенно как у Бергсона (ср. «По ту сторону принципа удовольствия», с. 24). Как у Бергсона, так и у Фрейда весь наш кортикальный аппарат не является приемником внешних впечатлений, а скорее средством защиты от раздражений (Reizschutz, «По ту сторону принципа удовольствия», с. 24), который имеет целью только сигнализировать возможность развертывания психического. О соответствии психического и физического тут не может быть речи. Можно, правда, возражать, что дело здесь идет о ненормальных явлениях; но именно ненормальные явления были для Фрейда толчком для его общепсихологической теории, точь-в-точь как у Бергсона, для которого психопатология является ключом психологии. И у Бергсона, и у Фрейда психическое внепространственно и вневременно. Бергсон признает, правда, за психическими процессами «длительность» (duree). Но эта «длительность» — не время в нашем обычном значении; психическое, как dutee, заражается, войдя в мир тел, нашим «опространствованным» временем, теряя свою сущность. У Фрейда психическое или основа психического — бессознательное — тоже вневременно и внепространственно. О в подтверждает теория Канта о субъективности пространства и времени, что Фрейд особенно подчеркивает: «Я позволю себе коснуться здесь бегло одной темы» которая заслуживает основательной обработки. Утверждение Канта, что время и пространство являются необходимыми формами мышления, может быть сегодня подвергнуто опять обсуждению благодаря некоторым познаниям, достигнутым психоанализом. Мы убедились, что бессознательные процессы сами но себе невременны, что они не плывут во временном порядке, что время ничто в них не изменяет, что представление о времени к ним неприменимо» («По ту сторону принципа удовольствия», с. 25). Психическое витает, по Бергсону, где-то в неопределенной области, но, применяясь к потребностям практики, оно как будто подвергается процессу «мимикрии», приспособляясь к миру тел, теряя свой чистый облик. У Фрейда видна тоже эта двойственность; и у него психическое является выразителем двух противоположных принципов: принципа удовольствия ‚(Lustprinzip) и принципа реальности (Realitдtsprinzip). Принцип удовольствия — это чистая психика; принцип реальности — психика исковерканная. Как мы видим, мозг издает тут, как и у Бергсона, только роль искажателя, а не основы психического. О точках соприкосновения фрейдизма с волюнтаризмом Шопенгауэра поговорим потом. У Бергсона психической жизнью par ехсеllеnсе является жизнь воспоминаний. С воспоминанием мы входим в область психического, — говорит он в «Материи и памяти». Воспоминания напирают все время на наш
- 48. 48 мозг, они хотели бы пройти целиком сквозь его каналы. Но напрасно они стучатся в двери ганглиевых узлов. Проходят только те, которые могут приспособиться к потребностям данного практического действия. Точь-в- точь то же самое встречаем мы и у Фрейда. Психическая жизнь в чистом виде для Фрейда — тоже жизнь воспоминаний. Невротики больны воспоминаниями — вот крылатая фраза фрейдизма. Мир воспоминаний богаче нашего сознательного мира. Туда пробирается только то, что может пройти сквозь преграды нашей цензуры, сквозь ворота принципа реальности, основой которого, по теории, изложенной в «По ту сторону принципа удовольствия», является внешняя часть мозговой коры. Можно ли условие считать основой, может ли ключ, открывающий дверь ‚ сокровищницы, ска- зать что-нибудь о сокровищах? — может спросить вслед за Бергсоном Фрейд. II На первый взгляд кажется, что система психологии Фрейда является стройной конструкцией, где каждая часть занимает определенное место, находится в строго определенных отношениях к другим частям, что, одним словом, его системе свойственен монизм, восхваляемый его приверженцами и рекомендуемый как пример, достойный подражания. При более тщательном исследовании оказывается, что никакого монизма тут нет, что даже его чисто-психологическая теория — не говоря уже о социологической — кишит невероятными противоречиями, которые должны поражать каждого, кто, освободившись от влияния стиля» потока очень красивых выражений и действительно остроумных «appercus», подойдет со скальпелем трезвого исследователя. В основном взгляде на психическое заметны у Фрейда и фрейдистов большая неуверенность и колебания. С одной стороны, у Фрейда существует, если можно так выразиться, «гидродинамическая» концепция психического, причем автором использованы почти все понятия гидродинамики. В одной из последних работ психическое рассматривается. Фрейдом под углом зрения термодинамических понятий (связанная, свободная энергия = скрытая, свободная теплота), причем даже закон энтропии фигурирует в виде мертвого «анорганического» равновесия, несмотря на то, что этот закон в термодинамике сильно поколеблен Нернстом. С другой стороны, мы видим у него гербартовскую атомистическую концепцию психического, причем эти атомы реалы (Reale) обладают, ‚как и у Гербарта, динамическими свойствами: они притягиваются или отталкиваются взаимно, передают друг другу импульсы, тормозят друг друга во время перехода в область сознания и т.п. Психика уподобляется некоторой коробке с атомами на манер кинетической теории газов, — коробке, которую уже многие психологи ‚высмеивали в полемике с Гербартом. Правда, многие психологи ассоциационисты видят в законах ассоциации нечто вроде закона всеобщего психического тяготения. Но психология Фрейда выросла как протест против
- 49. 49 ассоциативной психологии, которая, по мнению фрейдистов, слишком обща и поэтому ничего не объясняет. Фрейда называют обычно самым выдающимся теоретиком бес- сознательного, и он сам видит главнейшую свою научную заслугу в более широком, чем это было до сих пор, применении этого понятия. Между тем, строго продуманной и однородной теории бессознательного у него нет или, вернее говоря, у него существует на этот счет несколько теорий. Чтобы это доказать, нам надо познакомиться с его учениям о структуре сознания в широком смысле этого слова. Всю психику Фрейд разделяет (схема этого разделения представлена автором ясней всего в книге «Я и Оно») на три части: на бессознательное (Unbewusstes), досознательное (Vorbewusstes) и сознательное (Bewusstes). Досознательное — это те элементы нашей психики, которые в данное время не находятся в поле сознания, но могут туда перейти. Как определить бессознательное? Бессознательное — это та часть психического, которая ни в коем случае и никогда не может подняться выше порога сознания. Его содержанием являются сексуальные влечения различного характера, так как психика — сексуально-полиморфна, — влечения, которые не могут быть осознаны потому, что они, как социально вредные, подавляются цензурой сознания, оставаясь вне порога сознания и производя свои действия в сознании окольным путем, в замаскированном виде. Тут уже сразу видны громадные затруднения фрейдизма. Во-первых, как можно указывать на содержание бессознательного, не будучи в состоянии его анализировать, так как оно не поднимается никогда выше порога сознания. Фрейд колеблется. С одной стороны, он приближает бессознательное к сознательному, устраняет непроходимую грань, которая должна по теории между ними существовать, с другой стороны, он признает за бессознательным что-то качественно совершенно отличное. Мы уже ранее приводили цитату о вневременности и внепространственности бессознательного. Но Фрейд подчеркивает (в книге под названием «Острота и ее отношение к бессознательному») его алогичность1 . О ней говорит и Кольнай в вышецитированной книге: бессознательное полагает только психические элементы рядом друг с другом, отношение или-или, противоречие ему неизвестны; его основным свойством (находящимся в связи с прежними свойствами) является подвижность (ассоциация не зависима от внешнего впечатления) и вневременность, пренебрежение к обстоятельствам внешнего мира (Кольнай, с. 44, и Фрейд, Бессознательное. Наука о неврозах, IV, с. 319). Спрашивается, как может сознательное подвергнуть цензуре, вытеснять то, что существует вне всякой логики, — непонятно! Должно же вытесняемое иметь определенное содержание, должны же, по крайней мере, 1 Тут некоторые будут склонны видеть аргумент в пользу «диалектичности» психологии Фрейда. О его мнимой диалектичности мы поговорим потом.
- 50. 50 существовать основные тенденции этого содержания. В противном случае цензура является вещью, совершенно необъяснимой. Эту трудность заметили уже ученики Фрейда, и они поставили на место сексуального влечения влечение вообще, без определенного содержания, благодаря чему было устранено в фрейдизме все специфическое, и последний покатился по наклонной плоскости к Шопенгауэру (Ранк, Художник). Фрейд видел противоречие этой теории, В своей «Науке о неврозах» он развил новую теорию «осуждения» (Verurteilung), которая должна заменить хромающую теорию «вытеснения» (Verdrдngung). Б этой новой концепции то, что раньше было бессознательным, значит, все сексуально- антисоциальные влечения, известны сознанию по своему содержанию и вытесняются сознанием нарочно, именно ввиду их социально-вредного характера. «Развитой формой преодоления противообщественных желаний является осуждение, критическое отстранение (курсив мой. — В. Ю.) и неудовлетворение данного влечения. Оно (осуждение. — Б. Ю.) дозволяет, даже требует признания того, что соответствующее желание действительно существует и что его устранение требует усилий» (Кольнай, там же, с. 50). И другое очень важное место: «Осуждение не только не идет на уступки бессознательному, но, наоборот, является освобождением личности от бессознательности» (Кольнай, там же, с. 53). Тут выступает бессознательное в другом: свете. Его содержание, во- первых, нам известно, с другой стороны, весь акт вытеснения происходит в области сознания и является преднамеренным стремлением сознания. Понятия вытеснения и осуждения противоречат друг другу, и роль бессознательного меняется. Кроме того, получается еще другая трудность. Является же у Фрейда невроз следствием конверсии бессознательного, причем больным не сознается содержание бессознательного. Вся теория неврозов должна быть теперь построена иди на другом принципе, или надо сказать, что только у невротиков ‚бессознательное является действительно бессознательным, в чем и заключалась бы сущность болезни. Фрейдисты стараются выпутаться из затруднения, приписывая осуждение только высших культурным ступеням. Так, например, говорит Кольнай: «Система осуждения присуща другой, совершенно иначе» построенной общественной структуре, чем система вытеснения» (Кольнай, с. 50). Но и такой оборот дела не может облегчить затруднения. Все-таки остается неустранимым вопрос, когда же и при каких обстоятельствах система вытеснения заменяется осуждением, и как такая система возможна. С другой стороны, мы знаем, что с развитием культуры мы переходим все больше в эпоху истерии (по Ранку), число неврозов увеличивается, и, наоборот, бессознательное должно опускаться все глубже и глубже. Замена системы осуждения системой вытеснения должна» бы быть логическим выводом последнего взгляда; но указанное противоречение еще не есть самое крупное. Мы уже говорили, что бессознательное алогично; оно тоже аморально и поэтому нуждается в цензуре.
- 51. 51 Таково было, по крайней мере, мнение фрейдистов до последнего времени. Но в своих последних работах Фрейд сошел со своего прежнего пути (вообще последние работы Фрейда во многом отступают от прежних, главным образом в смысле отречения от монизма и сознательного подчеркивания дуализма, — этой ревизией обязан Фрейд отчасти посторонней критике, отчасти тому, что внутри фрейдизма образовалось много отличающихся друг от друга направлений, при чей многие выдающиеся фрейдисты отошли совершенно от фрейдизма). Тут бессознательное наделяется очень высокими свойствами сознания: так, Фрейд, например, говорит о чувстве вины, как об основном свойстве бeccoзнaтeльного, причем он сам подчеркивает, что такое мнение расходится резко с тем, чему он раньше учил. «Но еще более странен другой опыт. Мы узнаем путем наших анализов, что существуют лица, у которых самокритика и совесть, следовательно, очень высокие душевные функции, бессознательны и в качестве бессознательных производят большие действия; бессознательный характер отпора (против обнаружения наших сексуальных влечений. — В. Ю.) во время анализа — не одиночное явление этого рода. Новые опыты, которые заставляют нас, вопреки возможным критическим возражениям, говорить о бессознательном чувстве вины, запутывают нас все больше и ставят нам новые загадки (курсив мой. — В. Ю.), особенно если мы приходим все больше к убеждению, что такое бессознательное чувство вины играет в очень многих случаях неврозов экономически решающую роль и выдвигает большие препятствия влечению. Если мы теперь возвратимся к нашей шкале ценностей, мы должны сказать: не только самое низкое, но и самое высокое в Я может быть бессознательным» («Я и Оно», с. 29–30). Тут опрокидывается не только теория бессознательного, но и теория неврозов, как чисто асоциальных явлений. Как сможет сам Фрейд согласовать этот свой новый взгляд с прежним учением, до сих пор еще неизвестно1 . Чем дальше, тем больше отходят Фрейд и фрейдисты от своего понятия абсолютно бессознательного. Это понятно. Отделяя сознательное и бессознательное, они образуют между ними такую непроходимую пропасть, что переход от одного к другому становится необъяснимым. Многие склонны думать, что здесь возможен некоторый «диалектический скачок». Но такой скачок может иметь место только там и только в таком случае, если количество достигает определенной грани. Но как можно здесь говорить о количественном в применении к тому, что не подвержено пространственно- временным определениям, что никакому определению вообще не поддается. Так же неизвестно, что назвать качеством бессознательного. 1 Тут несомненно влияние Канта и его учения о моральном как метафизической сущности Я. Учение о первобытном чувстве вины сходно с учением Анаксимандра о метафизической вине и еще больше с das radikale Bцse Канта, развитием которого оно и является (сравни «Психология масс и анализ Я», с. 10). На этой почве многие фрейдисты из чистых литераторов ввели немало элементов соответственно обработанной достоевщины в ученье фрейдизма.
- 52. 52 Последнее время Фрейд и фрейдисты определяют бессознательное как не социализированное в слове: «В другом месте я сделал уже предположение, что действительное различие между бессознательным и досознательным представлением (мыслью) заключается в том, что первое работает в материале, который нам неизвестен, в то время как в случае последнего, досознательного, играют роль словесные представления. Тут впервые делается попытка указания для двух систем, досознательного и бессознательного, черт, которые ничего общего не имеют с фактом сознавания (курсив мой. — Б. Ю.). Вопрос: как что-либо сознается, целесообразнее было бы поставить так: как что-нибудь становится досознательным. И ответ должен звучать: путем соединения с соответствующими словесными представлениями» («Я и Оно», с. 19–20). И Кольнай: «Совершенно другое дело получается с бессознательным: основная его черта заключается не в том, что оно не может играть никакой роли в душе, так как это верно только до некоторой степени (раньше это было совсем неверно! — Б. Ю.), — только в том, что оно не может предстать перед обществом. В бессознательном является все то, что в сознании было органической формальной грамматической конструкцией, в виде только сырого материала» (Кольнай, с. 44). Бессознательное играет тут роль психологического материала для некоторой логической обработки: оно сознается, но оно не осознано. В этих местах Фрейд соприкасается с теориями социоморфизма. Все ваши понятия, основные категории мышления являются словесно-грамматической обработкой неупорядоченного материала. Фрейд, конечно, не додумал своей мысли до конца. Он не подозревает, что такое логическое доведение до конца повело бы к полному отрыву от действительности или к кантианству, если, следуя последней цитате Кольная, истолковывать сознательное как мир форм. Такой оборот приняла теория Фрейда под влиянием лейб-социолога, фрейдистов Дюркгейма (Durkheim). Природа, например, превращается у него только в категорию общества. С этим Кольнай согласен: он характеризует только фрейдистский социоморфизм как психологический в противовес гносеологическому социоморфизму Дюркгейма. «Дюркгейм, предмет и исходные точки которого совершенно отличны, утверждает в сущности то же самое. Он приписывает не только религии, но и идеям пространства, времени, причинности и группы социальное происхождение. Его «социологизм» более гносеологичен, «социологизм» психоанализа — психологичен» (Кольнай, с. 38). Но это — вопрос второстепенный. Важно, что тут мы дошли до полного отрицания фрейдистского бессознательного; круг замыкается — мы дошли до отрицания, только — увы! — не до отрицания диалектического. III В введении к статье я говорил об эстетизме и стилизации Фрейда. Здесь хотел бы я объяснить точнее мою мысль и дать доказательства наличия этой
- 53. 53 черты в фрейдизме. Под эстетизмом мировоззрения я понимаю нанизывание вокруг какой-нибудь идеи других идей, которые имеют только отдаленное сходство с данной идеей, но округляют данную идею в целое, действующее посредством эстетических моментов мировоззрения. Эстетизированной и стилизированной была, например, идея демократии у английского романтика Шелли (Queen Мааb и др.) или у польского романтика Словацкого; эстетизированным является современный индустриалист у Маринетти и футуристов, являющийся блужданием людей, лишенных совершенно производственной психологии; эстетизированным является современный ма- ринизм в дешевых географических одах Уитмена, но и психология производителя перешла в стилизацию у синдикалиста Сореля, где она соединяется с полупоэтическим, полувиталистическим понятием elan Бергсона. Эстетизация — установка, чисто паразитическая, интеллигентская. В коммунистическом лагере элементы стилизации заметны у Лукача; всякая критика, направленная против него, должна исходить отсюда. Все другие его ошибки имеют тут свой корень. Я утверждаю, что фрейдизм все больше и последовательнее переходит в область стилизации. У Фрейда, серьезного человека науки, она раньше почти не замечалась, но сейчас обнаруживается все больше и больше, главным образом под влиянием его собственных учеников. Эти ученики — типичные культурно-рафинированные интеллигенты, с очень широкими интересами в области литературы и искусства, в области этнологии, — причем и тут привлекают их в первую очередь эстетические моменты, — в области ‚ философии, но в тех ее частях, где она соприкасается больше всего с эмоциональным миром или встает в увлекательном полумраке мистики и поэзии, Я говорю о метафизическом фоне, который дали Фрейд и фрейдисты своему учению о бессознательном и психическом вообще, чтобы, с одной стороны, указать на эстетизирующий эклектизм их учений, а, с другой, подорвать легенду о материалистических основах фрейдизма. Свою метафизику Фрейд изложил, главным образом, в двух последних работах; в «По ту сторону принципа удовольствия» и в «Я и Оно». Ее можно характеризовать как комбинацию аристотелизма в его современном неовиталистическом одеянии, фихтеанства, выраженного в прекрасных образах Бергсона, отчасти Фехнера, — Фехнера не психофизика, а мечтателя, и Ницше. Фрейд и фрейдисты исходят из понятия влечения. Это понятие соединяется у них с понятием Tathandlung Фихте и с понятием воли Шопенгауэра. На основании этих понятий Фрейд строил свою картину мира. Характер ее приблизительно таков: из неосознанных недр нашего я плывут бесконечные потоки психических энергий, какая-то стихийная лава, вечно действующая и съедая, которая стремится «разлиться безбрежно». Эта психическая сила — поток жизни, который хотел бы охватить все, вовлечь все в свой водоворот. Но в недрах этого потока, который Фрейд часто по- платоновски определяет как эрос, родится другой противоположный ему
- 54. 54 принцип — «принцип реальности». «Наблюдение, что с увеличивающимся осложнением’ отношений не каждое влечение может быть удовлетворено, и что желание должно замолчать, ожидая прихода момента» более благоприятного для его удовлетворения, — ведет к образованию психической системы, названной Фрейдом принципом реальности, который является надежным проводником господствующего раньше беспредельно принципа. удовольствия, по трясинам действительности» (Ранк, «Художник», с. 83). Мир раздваивается на две части: с одной стороны, мы имеем слепое самовлюбленное влечение, с другой стороны — чувство реальности, твердых контуров действительности; оно-то образует органы чувств и то, что мы называем рассудком. Как у Шопенгауэра, так и у Фрейда, мир — это проекция нашего «я» с целью регулирования наших влечений. Там и тут весь мир ощущений играет служебную роль, он — орудие в руках эроса. «Одновременно с развитием жизни влечений и психического аппарата была человеку дана возможность извлечения из внешних вещей — по аналогии с сексуальным объектом (курсив мой. — В. Ю.) все большего удовольствия. С помощью органов чувств, дифференцировавшихся из раздражимой везде кожи, при содействии эротических влечений и для сохранения жизни образовался рассудок» (Ранк, «Художник», с. 36). Тут видна связь эротики с образованием мира. Это стадия умеренного шопенгауэрьянства. Мысль фрейдистов здесь еще очень скромна: влечение действует внутри существующей вне его материи, причем вопрос первенства еще не ясен. Более ярко выступает идея примата влечения над материей, причем материя играет уже роль пассивной среды, в «Я и Оно». Каждому из этих двух родов влечений соподчинен специальный физиологический процесс (строительство и распад), и в ‚каждом куске живой субстанции действуют оба эти влечения, не в равных‘ пропорциях, так что одна субстанция могла бы взять на себя главную функцию эроса» («Психологии масс и анализ Я», с. 50). В «По ту сторону принципа удовольствия» мысль о примате Я, о человеке, как творце мира, достигает совершенно отчетливого выражения. Подобно Шопенгауэру Фрейд достигает этого путем признания миро- творческого значения проекция (с другим значением проекции мы познакомимся потом). Человеческий мозг состоит, по Фрейду, из нескольких пластов: верхняя его часть является основой сознания: она представляет собой анорганическую мембрану, которая воспроизводит точно влияний внешнего мира. Она — основа ощущений, которые проходят вместе с исчезновением раздражителя. Целью этой внешней мембраны является не столько восприятие мира, сколько защита (Reizschutz) от внешних раздражении. Ниже этого пласта находятся центры воспоминаний. Фрейд, как известно, в противовес’ всем физиологам, перенес физиологические основы некоторых психических функций вглубь мозга; в этих глубоких недрах мозга действует собственно наш дух, тут и происходит драма миротворчества. Нам уже известно из прежних рассуждений, что основным ядром нашего духа являются влечения, погруженные в пену неясных образов
- 55. 55 — зародышей представлений. Наше Я старается устранить неприятные чувства, связанные с неудовлетворенным влечением. Чтобы это осуществить, — оно выбрасывает вовне содержание этих чувств. Таким путем оно может воспользоваться защитой внешней мембраны. Благодаря этому собственные психические содержания превращаются во внешний мир, верхняя мембрана мозга становится узлом, где происходит эта мистика проекций. Тут, наконец, поставлена точка над i. Абсолютный субъективизм стилизирован в пышный костюм физиологии — и Беркли-Фихте говорят теперь на железном языке топологии мозга. Недоумевающего читателя отсылаю к «По ту сторону принципа удовольствия», с. 26. Это — вторая попытка изображения генезиса мира и чувства. Первая попытка была сделана Гурвичем (Hurwics), но не встретила никакого сочувствия. Фрейдистская имеет больше шансов встретить такое сочувствие в наш век, падкий на сенсации. Несомненно большое значение наших влечений в психической жизни привело к их абсолютизации и превращению их в составные камни мироздания. Они и повели к научно-стилизаторской драпировке некоторых предрассудков идеализма. Я уже раньше говорил об афизиологизме фрейдистов. Под предлогом победы в наше время неовитализма (тоже одна из идеологий распада), фрейдистами проводится чисто-идеалистическая теория взаимодействия. Комбинируя идею доминантов Дриша с теорией влечений, фрейдисты образовали «третье царство», не то физическое, не то психическое, царство влечений. «Психическое является ослабленным, утонченным благодаря устранению либидо, физическим, и во влечениях, которые Фрейд рассматривает как пограничные понятия между телесным и духовным, происходит этот процесс онтогенетически с большой ясностью» (Ранк, «Художник», с. 33). Это переходное царство, о котором, впрочем, говорил уже Декарт в своих «Prineipes», дает фрейдистам два преимущества. Во-первых, оно дает им теоретическую возможность образования «чистой» психологии; если чисто психологические процессы не могут «выручить» и надо прибегнуть к физиологии, надо (в противовес законам сохранения энергии) вставить физиологический процесс, как равноценное звено в цепи психических процессов; фрейдисты могут это преспокойно сделать, так как у них физиологическое тоже до некоторой степени психическое. Во-вторых, такая постановка вопроса дает им возможность вести «янусообразную» политику по отношению к материализму и идеализму. Ущемленные материализмом, они указывают на свои «влечения», как на физическое в психическом, ущемленные идеализмом, они действуют наоборот: влечение превращается в психическое в физическом. Модным созерцателям современности, всем артистическим, аристократическим душам, они могут предложить свой чистый дух, освобожденный от либидо, платоновско-шопенгауэровское созерцание Sic itur ad astra. Впитывающая в себя все, неопределенность играет цветами радуги божественной универсальности. IV
- 56. 56 В последнее время фрейдизм переходит все сознательнее на дуалистические рельсы. Фрейдистский дуализм является или психо- аналитической интерпретацией учения Бергсона и Канта, или апологетизмом современного разложения. В новейших работах Фрейд сознательно стал философом разложения; этот факт бросает яркий свет на молекулярные процессы, происходящие в недрах современной буржуазной культуры, являясь, вместе с тем, предостережением для марксистов, склонных искать в фрейдизме точек опоры для «углубления» некоторых проблем исторического материализма. До недавнего времени стремление к удовольствию, к наслаждению, вопрос Libidoprinzip, было основным стержнем учения Фрейда. Его философской основой был гедонизм в широком смысле этого слова, который у различных авторов принимал различную окраску, но в общем был для всех фрейдистов исходной аксиомой. Но некоторые наблюдения склонили Фрейда отойти от прежней позиции. Он убедился, например, что многие дети, которых на протяжении целого дня покидала мать, бросали предоставленные им игрушки в угол комнаты, испуская при том звуки о-о-о, которые Фрейду удалось интерпретировать как выражение того, что игрушки нет, что игрушка «ушла», «исчезла». Потом они опять находили игрушку. Фрейд объяснял эту игру как инсценировку ухода и возвращения матери. Казалось бы, что принцип удовольствия тут тоже удовлетворяется, так как все действие кончается благополучно, исчезнувшее возвращается опять. Но с течением времени Фрейд убедился, что ударение лежит не на второй, а на первый части: игры. Тут основной гедонистический тезис не оправдывается. «Этому (принципу удовольствия. — Б. Ю.) противоречит наблюдение, что первый акт, уход, часто инсценировался как самостоятельная игра и притом гораздо чаще, чем вся игра, доводимая до благополучного доставляющего удоволь- ствие конца» («По ту сторону принципа удовольствия», с. 12). Но Фрейд не покидал сначала гедонистических позиций. Он объяснял все это явление таким образом: ясно, что факт исчезновения матери доставляет ребенку большое неудовольствие. Но это неудовольствие исчезает, если это исчезновение будет выражаться как свободное желание ребенка. Игрушка, которую в данном случае представляет мать, исчезает по воле ребенка. Это чувство силы. Machtprinzip, является для ребенка источником удовольствия. Ребенок изменяет совсем смысл неприятного ему раньше явления и почерпает удовольствие из того, что само по себе должно доставить ему неудовольствие. Таким образом он спас свою доктрину. Но эта победа оказалась мимолетной и кажущейся. Наблюдая многих невротиков, он убедился, что многие из них не могут вспоминать переживаний, легших в основу конверсии и вызвавших болезнь, а «разыгрывают» их, повторяют их. Так как содержанием травмы является так называемый комплекс Эдипа (о нем будет речь ниже), то они повторяют его, перенося на личность врача. Это явление навело Фрейда на другую идею,
- 57. 57 подрывающую в корне его прежнее воззрение и ведущую круто к дуализму. Он открыл у больных, а потом, конечно, и у всех других людей, новое влечение, принудительное влечение к повторению, Wiederholungszwang. Организм и личность стремятся повторять прежнее состояние. Каждому, знакомому с современной философией, бросается в глаза аналогия с Бергсоном. Мы знаем, что Бергсон различает в «Материи и памяти» два рода памяти — Чистую память, memoire pure, и двигательную память, memoire motrice, которая воспроизводит прошлое в форме движения, не связывая его с конкретными образами прошлого. Что воспроизводит это навязчивое влечение к повторению? Уже тот факт, что влечение к повторению обнаруживается в первую очередь у больных, дает доказательство, что восстанавливаются первичные бессознательные асоциальные состояния, das Perverse. Отсюда появляется общее правило: организм стремится к возврату к прежним более простым состояниям. Это стремление является «демоническим» принципом у человека. Организмам присуща какая-то судьба, НАД ними висит неумолимый рок, «дух направления» («Получается впечатление преследующего ‚их рока, демонической черты в их переживаниях», — «По ту сторону принципа удовольствия», с. 18). Автор не скрывает, что тут мы покидаем область чисто-рационального, что мы имеем дело с каким-то мистическим принципом. Вообще надо здесь прибавить, что вся работа «По ту сторону принципа удовольствия» навеяна мистическим духом, который чередуется со строгими, чисто-научными анализами, полемикой с Вейсманом и т.д., так что мы недоумеваем перед ней так же, как недоумевал Кант перед фокусами Сведенборга, как будто исходившими из мира физических данных, но кончавшимися где-то в фантастических, непостижимых мирах. Эта идея судьбы, которая присуща организмам, — тоже одна из любимых идей современного буржуазного распада. Она появляется как idee maitresse у Шпенглера, который старается дать органическую теорию истории; ее духовным отцом является Шопенгауэр (Ьber die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen), — еще одно из доказательств тесной связи шопенгауэрианства и фрейдизма. Доказательством современного идейного дальтонизма является тот довольно странный факт, что Шпенглер критикует резко и Шопенгауэра и Спенсера, последнего как творца органической теории истории. Сходство навязчивого влечения к повторению с идеей Ницше о возврате равного (Wiederkehr des Gleichen) бросается в глаза. Сходно тоже и субъективное отношение к этому возврату. У Фрейда выступает оно как сладострастное влечение к повторению, у Ницше как гордое amor fati. Оба эти отношения являются выражением отвращения к истории современной буржуазии, неверия в ее творческие силы. Для буржуазии история кажется бессмысленным до бесконечности повторяющимся прибоем волн к заброшенному берегу апатии, образующему как свой результат лишь липкую грязную пену будней, Этот мотив известен был уже тоже Шопенгауэру. Пока
- 58. 58 мы еще не порвали с принципом удовольствия. Но Фрейд идет дальше. Он уже доказал, что влечение к повторению обнаруживается в первую очередь в неврозах, следовательно в состояниях очень малоценных в смысле положительных, жизненных ценностей. Теперь он договаривает своп мысль до конца. Навязчивое влечение к повторению превращается в метафизический принцип, и его смыслом является стремление к возврату, к низким состояниям вообще, стремление к смерти, к разложению. Когда-то появились в мертвой материи посредством действия неизвестных нам сил признаки и свойства жизни. Они пронизывают материю, стараясь поднять ее на более высокую ступень. Но влечение к повторению тормозит это движение. Оно вырывает у материи самое ценное у нее — жизнь и влечет ее к смерть. «Смыслом жизни является смерть» («По ту сторону принципа удовольствия», с. 36). Принцип удовольствия тут заброшен, ему противополагается влечение к смерти. Все взгляды, которые исходят из принципа самосохранения — в корне неверны. Они должны уступать все более место противоположному принципу и он является в окончательном счете победителем. «Теоретическое значение влечения к самосохранению, к силе и значению (Geltung) умаляется с этой новой точки зрения; это только частичные влечения (Partaltriebe), значение которых заключается в том, чтобы обеспечить для организма свой собственный путь к смерти и устранить все другие возможности возврата к неорганическому: загадочное, противоречащее идее организма стремление организма к самосохранению во что бы то ни стало, отпадает» («По ту сторону принципа удовольствия», с. 37). Фрейд выражает здесь новый закон «органической» инерции, на- подобие такого же физического закона. Казалось бы на первый взгляд, что тут нет ничего метафизического, что этот принцип выражает факт разложения организмов. Но на самом деле это не так. Смерть является смыслом живого. С большой горячностью и нетерпением повторяет Фрейд вслед за современной биологией (мы знаем все, какую ценность имеют сейчас общие идеи в биологии), что развитие сопровождается всегда регрессом, разложением в других областях, причем, наконец, побеждает именно разложение. Он оспаривает теорию Вейсмана, по которому зародышевая плазма является элементом поддерживания и развития жизни, поднятия ее на более высокую ступень, и цепляется за опыты Мопа (Maupas) и Калькинса (Calkins), по которым размножение ведет, наконец, к смерти. Свои «наблюдения» он обобщает, развивая теорию отрицания, стремления к усовершенствованию и усовершенствование вообще. «Многим из нас будет трудно отказаться от веры, что человеку присуще стремление к усовершенствованию, которое подняло его на современную высоту духовных достижений и этического развития и от которого ожидали, что оно доведет до развития сверхчеловека. Но я не верю в такое внутреннее влечение и не нахожу повода щадить эту приятную (wohltuende) иллюзию» («По ту сторону принципа удовольствия», с. 40).
- 59. 59 И незаметно, медленно, но верно, мы приближаемся к надежной пристани всех банкротов нашего времени — всеспасающей философии Шопенгауэра. «Но мы не должны скрывать перед собой, что мы незаметно причалили (eingelaufen sind) к пристани философии Шопенгауэра, для которого смерть является «собственным результатом», а следовательно, и целью жизни, сексуальные влечения — осуществлением стремления к жизни» («По ту сторону принципа удовольствия», с. 49). Мы проделали довольно большой путь: от пенящейся жизненной силы, от радостного принципа жизни, от бурных потоков органического творчества в мертвые воды нирваны. Фрейд так и говорит теперь о принципе нирваны1 . Таким образом он становится теперь на дуалистическую почву. Он различает теперь «влечения Я» (Ich-Triebe) я сексуальные влечения (Sexualtriebe); первые являются выражением принципа смерти, вторые выражением принципа отсрочки смерти. Вторые влечения должны играть только роль гарантии того, что смерть придет по имманентным, не внешним причинам, что она — метафизическая сущность мира. Он воюет со строгой последовательностью со своим учеником Юнгом, который не хочет отойти от прежнего монизма. С неимоверной силой анализа открывает он все консервативное в природе. Он отрицает положительный характер чувства удовольствия, и вслед за Фехнером истолковывает его как выражение некоторого равновесия в организме, ставя во главу угла всего мира Фехнеровский принцип постоянства (Stabilitдt), вслед за Авенариусом вводит он понятие жизненной разницы (Vitaldifferenz), видя в удовольствии только выражение устранения этой разницы. Но Фрейд этим не удовлетворяется. Принцип разложения, как принцип организма, еще не общий принцип. Ему еще не хватает универсальности, он еще не всеобщий закон. Еще блестят в лучах солнца зеленые, свежие луга истории, они не покрыты еще все замораживающим саваном нирваны. Но Фрейд пробирается и туда. Его теория достигает, наконец, окончательного завершения и превращается действительно в мировоззрение. Это обобщение принципа Нирваны осуществляет Фрейд в 1923 г., в книге под названием «Я и Оно». Уже раньше нашел Фрейд у нас какую-то мазохистскую слагаемую влечений к мучениям, сладострастия в уничтожении. Эту слагаемую самоуничтожения спрягали на многие лады различные фрейдисты в более или менее мистических «концепциях», причем насчет спекулятивности перещеголяла всех Сабина Шпильрейн, статью которой даже Фрейд назвал не очень прозрачной для себя, хотя он сам тогда пребывал довольно глубоко в стихии «Trдume eines Geistersehers». Свою мысль развивает он теперь дальше, немножко в измененной постановке, хотя, как мы увидим, это изменение имеет принципиальное 1 Странным образом, Гегель в своей «Феноменологии духа» говорит о такой же «комбинации наслаждения» и разложения в главе об удовольствии и необходимости. Еще более странно, что он такую культурную «фазу» помещает перед революцией (французской). Не являются ли его слова пророческими и теперь?
- 60. 60 значение, обозначающее опять отход, на другие, заранее не подготовленные позиции. В «Я и Оно» влечение Я является центром влечений самосохранения и удовольствия. Но в вас существует целый клубок чувств и влечений, связанных с комплексом Эдипа. Это, с одной стороны, — чувство ревности матери к отцу, неприятные и враждебные по отношению к отцу чувства, вытекающие из инцестуозных стремлений сына к матери, с другой стороны, на основании закона амбивалентности чувств, то есть колебания между двумя противоположными полюсами — чувства уважения к отцу, стремления к подражанию ему, к отождествлению. Этот комплекс чувств выражается положительно и отрицательно таким образом: ты должен быть таким как отец, ты не должен быть таким, как отец, то есть ты не должен делать многое, что делает он (то есть по отношению к матери); он — несовместим с прежним комплексом, так как юн не вмещается в рамки самоутверждения. Поэтому индивид образует над Я пласт Сверх-Я или идеального Я. Это идеальное Я (lch-ldeal) является в первую очередь миром морали. В то время как Я старается самоутвердиться, не обращая внимания ни на какие препятствия, Сверх-Я ставит ему эти препятствия. Сверх-Я превращается теперь в принцип разложения. «Оно» внедряется в Я и вызывает в нем чувство вины. Но, как мы увидим дальше, отец являются символом государственной власти и права. Таким образом, все эти образования (то есть государство, право, мораль и т.д.) являются проекцией чуждых Я элементов Сверх-Я, и они являются продуктами разложения. Фрейд идет дальше; проекция частей Я в Сверх-Я (я хотел сказать вслед за Фихте — в не-Я) дает исходные точки для деления мира, на внутренний и внешний; Я является источником внешнего, Сверх-Я — внутреннего мира («Я и Оно», с. 43 и др.). Таким путем мы приходим к кантовско-фихтеанской концепции моральной сущности нашего Я и моральной в конечном счете сущности мира. Но все-таки здесь имеется принципиальное различие. В то время, когда тот «морализм» дышит безмерным пафосом оптимизма и веры, у Фрейда «морализм» настроен на пессимистический лад. Весь этот мир морали — выражение разложения Я. Сверх-Я рисуется Фрейду на страницах «Я и Оно» каким-то врагом человечества, затаенным убийцей, который обманным образом проник в нашу психику, разрушая рай ее гармонии, превращая в крик отчаяния веселые тона свирели Пана. В какую-то разъедающую тоску по Высшему превратилась самоудовлетворенная, лесная мудрость человечества — и inde incipit tragoedia! На минуту нам кажется, что мы перенеслись в знакомую нам, счастливую, богатую предчувствиями эпоху, когда Фейербах в земли новой человеческой истории бросал свои здоровые зерна мыслей об антропологии, когда Штирнер призывал к устранению разъедающих человечество, но им же самим сотворенных, призраков (Spuck). Эти мысли кончились образованием марксизма. Но мы в другой эпохе. Мысли Фрейда отдают отчаянным воем Ницше о декадансе. Мысли Фрейда, это только — транспозиция на другой лад идей Ницше об «охристианении» Европы. Нет уже Цезарей Борджиа —
- 61. 61 представителей чистого Я. Оно приготовило себе яд, который доведет его до смерти. И у Фрейда и у Ницше психическое отдает затхлой, гнилой атмосферой лазарета. При этом все основные элементы человеческой психики подвергаются еще раз основательному перемещению, хотя причина этого перемещения и его связь с прежними «констелляциями» не указана! В то время как раньше Я являлось представителем моральной цензуры, бессознательное чем-то аморальным, роль бессознательного берет теперь на себя Я. Мы поднимаемся «этажом выше». Впрочем, тут все в порядке. Мы уже раньше указали, что чем дальше, тем больше фрейдисты уничтожали свою теорию бессознательного: это выражалось между прочим замещением понятия вытеснения понятием осуждения. Таким образом теряются все больше специфические черты фрейдизма, и мы все решительнее плывем в безбрежное море неопределенности. V Чем дальше, тем больше исчезает ясность учения фрейдизма, сглаживаются его острые контуры и фрейдизм превращается в течение, которое всем может объяснить все. Мы потом увидим результаты такого явления. Мы все помним начало полемики Энгельса с Дюрингом, — в Анти- Дюринге Энгельс упрекает Дюринга в том, что тот исходит из ‚какого-то неопределенного, туманного единства, из которого потом выделяется сознание и материальный мир. Получается какое-то Ґpeiron Анаксимандра, такое же хаотическое, как и у этого последнего. Такое понятие Ґpeiron вводит Фрейд под названием загадочного «Оно» («Es»). Фрейд никогда точно не определил «Оно», хотя оно стало уже предметом даже фрейдистских романов (Georg Groddeck, «Das Buch vom Es»). «Оно» — нечто психическое, но находящееся еще глубже бессознательного. Это область, где Я входит в стихию природы, не обладает еще никакой действенностью или обладает ею только в зародыш в зачатках. Фрейд злоупотребляет этим понятием, оно становится, наконец asylum ignorantiae, которое должно спасать автора от всех трудностей, возникающих в области сознательных и сверхсознательных процессов. С понятием «Оно» мы входим в область, где все кошки серы. Происхождение «Оно» очевидно. Это отрыжка немецкого философского романтизма, модернизированный абсолют Шеллинга. Как у Шеллинга из недр абсолюта выделяется природа и дух, так и у Фрейда из «оно» выделяется Я и Сверх-Я. Таким путем у Фрейда выступает идея полярности, которая нашла уже теоретическую почву в основном метафизическом дуализме его последних работ. И подобно тому как для Шеллинга его полярность была удобной схемой, позволяющей ему без большого умственного напряжения, без искания сложной диалектики и динамики вещей, вмещать все явления в готовые ящики, — занятие, которое потом стало предметом неумолимых атак и насмешек Гегеля, так и Фрейд
- 62. 62 переносит в область Оно разрешение противоречий, неразрешимых ‚ в других областях. При том Оно играет различные роли. То оно является чем- то вроде absolutum indifferentiae («Я и Оно», с. 46); то принимает на себя функции бессознательного, превращаясь в выразителя принципа удовольствия («Я и Оно», с. 27); то оно является удобным средством, которое должно объяснить нам происхождение наших ощущений («Я и Оно», с. 21). Мы уже говорили раньше, что мир внешних вещей является выражением принципа реальности. Теперь Фрейд «углубляет» эту теорию. Весь мир реально заключен в зародышевом состоянии в Оно, в этих самых глубоких недрах нашего психического существа. Оно представляется Фрейду как неописуемая амальгама зачатков образов, которые развертываются и становятся яснее в высших частях духа. Получается что-то вроде мира неясных перцепций Лейбница, к которым сводилась в конечном счете вся природа. Она была для Лейбница только Оно, где ядро действенного центра было еще не развито и пребывало в полусонном’ состоянии грезы1 . Фрейдисты часто говорят о женском начале, следуя тут идеям Вейнингера. В особенности Ранк построил новую философию мужского и женского, причем женское начало было выражением грезящей пассивности. Это das Ewig — Weibliche неопределенности заканчивает симфонию фрейдизма. Мы говорили раньше о полярности философии Фрейда. Это обстоятельство могло бы заставить неискушенного читателя искать у Фрейда диалектику. Поэтому придется и нам сказать несколько слов о диалектике Фрейда. Есть диалектика и «диалектика». Очень часто диалектика превращается у многих в удобное средство, которое должно нас «выручить» там, где нет ясной мысли, где нег убедительных аргументов. Так бывает у Фрейда. Меланхолию, например, Фрейд. объясняет элементом садизма, который присущ каждому человеку. Садизм — это только мазохизм наизнанку. Таким образом, получается «единство противоречий» — и мы можем играть как пешками садизмом и мазохизмом, отождествляя их или ставя их в противоречие, как нам это в данном случае удобно. Своеобразную теорию диалектики дает нам Фрейд в своей работе под названием «Острота». Острота является той функцией психической дея- тельности, в которой освобождаются заключенные в нас силы и энергии бессознательного. Характерное свойство остроты — это внезапные переходы от противоречий к противоречиям, «изящная» насмешка над логикой. Эти прыжки являются выражением врожденного психике стремления к бессмыслице и отражают алогическую сущность бессознательного. Нам казалось бы, что автор стремится дать психологическое объяснение диалектике, подобно тому как в свое время старался Кант дать в психологической части критики чистого разума обоснование трансцендентальной логики. Но диалектика является для Фрейда именно бессмыслицей: она прорывается в остроте, но вся деятельность сознания 1 Или, как метко говорит Гегель во второй части «Логики»: «Перцепции монад уподобляются игре цветных пузырей».
- 63. 63 направлена на то, чтобы эту бессмыслицу устранить. Взгляды Фрейда напоминают в этом отношении до мельчайших подробностей точку зрения Гартмана. И Гартман говорит об алогической структуре бессознательного, причем бессознательное для него является основой мира, чем-то вроде фрейдовского Оно. Вся работа мысли заключается в том, чтобы логизировать это бессознательное. Мы помним все те ушаты ругани, которые Гартман вылил на «диалектическую голову» Гегеля. О диалектичности психологии или — выражаясь термином Фрейда — метапсихологии Фрейда мы могли бы говорить по поводу его теории о так называемой амбивалентности чувств. Фрейд утверждает, что все чувства способны переходить в свою противоположность, что любое чувственное отношение к любой вещи или лицу может дать те же интеллектуальные результаты, как противоположное ему отношение, причем эти противоположные отношения сосуществуют. Не чистая ли тут диалектика? Но, к сожалению, Фрейд старается поспешно отгородиться от построенной им же «диалектики». Для устранения последствий, вытекающих из теории амбивалентности с Фрейд прибегает к теории проекции. Сущность этой теории заключается в том, что из некоторого психического комплекса выделяется одна его составная часть, находящаяся с другими частями в противоречии, и олицетворяется в другом психическом образовании. Так, например, утверждает Фрейд, что по отношению к любимому существу мы питаем и чувство ненависти. Это явление объясняется тем, что сексуальные влечения заключают в себе всегда некоторую долю садизма. Получается амбивалентность чувств. Но психика старается в высших своих пластах устранить эту амбивалентность. Отношение ненависти «проецируется», олицетворяется в других лицах, которые будто угрожают счастью и безопасности данного лица. У нас рождается чувство симпатии, сострадания к данному лицу, возникающее благодаря тому, что любимое нами лицо подвергается опасности и т.п. Чувство симпатии логически «согласуемо» с нашим любовным влечением и таким образом «диалектический» характер чувств устраняется. Теперь мы видим ясно, что никакой диалектики тут нет. О диалектике может быть речь только на очень низких ступенях сознания, совершенно как у Леви Брюля в его «Les fonctions mentales dans les sociйtйs inferieures». Можно, наконец, в пользу «диалектики» у Фрейда ВЫДВИНУТЬ Еще одно соображение: Фрейд признает, что наше сознание имеет ступенчатую структуру; между этими ступенями могут происходит диалектические скачки. За эту идею схватиться тем легче, что по Фрейду некоторые высшие формы сознания имеют свой прообраз в низших, являются, следовательно, прежними ступенями на «расширенном базисе». Но мы видели уже раньше, что эти «зародыши» являются выражением теоретической беспомощности автора. С другой стороны, автором не указаны диалектические переходы от ступени к ступени. О ступенчатой структуре сознания говорит Гегель в своей «Феноменологии», но он дает нам великолепную, захватывающую широко эпическую картину диалектических узлов этих ступеней. А в этом и все дело!
- 64. 64 В начале этой главы я говорил о неясности, расплывчатости» слишком широком толковании некоторых понятий Фрейда1 . Эта неясность продолжается и у его учеников (Ранк, «Художник», с. 24). Ранк с своей книге, которая должна была быть обоснованием сексу- альной психологии, так широко раздвигает понятие сексуального, что специфические его свойства исчезают совсем. Сексуальное влечение превращается у него во влечение вообще. Тут мы собственно покинули поле фрейдизма. Все решительнее сексуальные влечения превращаются только в атрибут чего-то более глубокого. Что это более глубокое — неизвестно. Такое направление мысли подготовил, впрочем, сам Фрейд, противопоставляя психологическим исследованиям метапсихологические. Так как автор не определил точно ни предмета, ни границ своей метапсихологии, фактически же в своих метапсихологических исследованиях ударяется в крайнюю мистику, то тем самым он дал своим ученикам «placet» на очень широкое толкование всего учения, что, наконец, довело это учение до крайнего разжижения в фарватере современных, соответственно стилизированных философских течений. VI До сих пор нам пришлось заниматься главным образом проблемами индивидуальной психологии. Но Фрейд и фрейдисты, которые старались некоторые частные наблюдения и полученные на их основании результаты раздвинуть до рамок общего мировоззрения, натолкнулись необходимо на вопросы социальной психологии и социологии. Это имеет место особенно последнее время, когда под влиянием колоссальных социальных потрясений во всем мире вопросы развития и судеб обществ стали актуальными. Особенно подействовала на фрейдистов революция в России, и они с большим вниманием изучали российские события, ‚стараясь дать им психоаналитическое истолкование. Такими путями образовалась фрейдистская социология, которая хочет стать рядом или даже старается заменить материалистическое истолкование истории, которое фрейдистам кажется «хозяйственным мистицизмом» (Кольнай, с. 64). Социология фрейдизма является самой слабой частью системы психоанализа, она полна прямо чудовищных противоречий; кроме того, она является выражением слепой, бешеной ненависти по отношению к марксизму, что будет доказано дальше. 1 Вот как он трактует свое центральное понятие либидо: «Либидо — это выражение, взятое из теории аффектов; мы называем так рассматриваемую как количественную величину, хотя до сих пор еще неизмеряемую, энергию таких влечении, которые относятся ко всему тому, что мы называем любовью. Ядром называемого нами любовью является то, что обычно называют любовью и о чем поют поэты (Sic!!!), половая любовь с целью пологого соединения. Но мы не отделяем от этого понятия ничего, что имеет отношения к слову (!!!) любовь, с одной стороны — любовь к себе, с другой стороны — родительскую любовь и любовь детей, дружбу и общую любовь к человечеству и, наконец, жертвование собой (Hingebung) в пользу конкретных вещей и абстрактных идей», — «Психология масс и анализ Я», с. 42).
- 65. 65 Основной первородный грех фрейдизма заключается в сравнении невротиков с дикарями. «Если это предположение верно, то сравнение должно открыть большое сходство в психологии первобытных народов, как ее показывает нам этнография, с психологией невротиков насколько мы с ней познакомились благодаря психоанализу, и оно даст нам возможность увидеть в новом свете знакомые уже истории и в той и в другой области» («Тотем и табу», с. 15). Везде, где имеется явление невроза, Фрейд ищет параллели таких же состояний у диких народов. Кольнай идет даже дальше. Невротиков он считает даже более «общественными», чем первобытные народы (с. 25). Но это противоречит основам фрейдизма. По классической теории Фрейда все сексуальные извращенные влечения, которые не могут быть оправданы судом цензуры, или вытесняются или конвертируются путем «вогнания» их в организм — начало неврозов, или сублимируются, образуя над собой надстройку «высоких» идеологий. В неврозах человечество образует в исковерканной, искаженной форме то, что путем сублимации дает социально ценные результаты. «Нельзя освободиться от впечатления, что больные делают в несоциальной форме те же самые попытки решений своих конфликтов и умиротворения давящих на них потребностей, которые называются поэзией, религией, философией, если они совершаются в форме, обязательной для большинства» (Фрейд, в предисловии к книге Райка: «Проблемы психологии религии», с. IX). Или Райк в названной книге: «Невроз является индивидуальной попыткой решения тех проблем, которые стараются решить крупные институции человеческого общества. Тут надо сейчас обратить внимание на то, что именно отступление на задний план социального фактора и перевес сексуальности является отличительной чертой неврозов и моментом, который не может дать этого решения (курсив мой. — В. Ю.) (с. XVI). Сейчас же появляется неустранимая трудность: раз неврозы — явления антисоциальные, то или нельзя искать параллели между дикарями и невротиками, или надо отказаться от возможности объяснения «социализации человека». Фрейд решения не дает, а только к прежней, первоначальной путанице присовокупляет новые серии путаницы, о которых пойдет речь потом. Тут можно бы выдвинуть в пользу Фрейда следующий контраргумент, который имеет за собой некоторую видимость вероятности: дикари похожи на невротиков в том смысле, что у них происходит в сознательной форме то, что у невротиков происходит в бессознательной. Но такой аргумент выдвигает опять новую трудность, являющуюся еще более роковой для фрейдизма. — Если эти влечения невротиков были антисоциальны, то как могло возникнуть общество, если же общество существовало сначала, то как объяснить, что цензура появилась в определенное время, а не раньше? Можно бы точку зрения Фрейда защищать еще таким образом, что сумма антисоциальных влечений была сначала небольшая, так что и при их наличии общество могло существовать; но Фрейд ничего не говорит нам о развитии различных форм эротики, а принимает всю ее совокупность, как данную, — наоборот, она подвергается все более регрессивным процессам.
- 66. 66 Или можно сказать, что асоциальные, эротические явления развились только у некоторых обществ или у некоторых частей «обществ, которые погибли в первоначальной борьбе за существование. Но этот аргумент не спасает теории Фрейда. Во-первых, Фрейд считает явления извращенной эротики всеобщими, во-вторых, извращенные эротические явления сохранились до сих пор, следовательно, не уничтожены борьбой за существование. Фрейд не может дать ответа на следующий вопрос: в метапсихологической основе всех коллективных психических образований, как религия, философия, народное искусство, лежат бессознательные инцестуозные влечения. Но существовали ли эти коллективные образования тогда, когда эти влечения были сознательны? А сознательными были они долгое время, по утверждению Фрейда. Придется выбирать две возможности: или принимать период психи- ческой стерильности, отсутствия коллективного творчества, период, обнимающий многие тысячелетия, что прямо нелепо и чему противоречат все данные этнологии, или принимать, что «Spiritus mo-vens» этого творчества было другое какое-нибудь, бессознательное содержание. Но об этом Фрейд не говорит ничего, хотя так поставили вопрос некоторые неофрейдисты. Тут — грех фрейдизма, которого ему устранить не удается. Но Фрейд совершает в другом месте еще один очень недиалектический «прыжок». Он отрицает en bloc основу своих психологических и социально- психологических теорий. Вот это место («Психологические этюды», с. 15): «На основании этого сходства и аналогии молено было бы смотреть на навязчивый невроз, как на патологическую копию развития религии, определить невроз как индивидуальную религиозность, религия, как всеобщий невроз навязчивых состояний (курсив мой. — В. Ю.). Важнейшее сходство состояло бы в лежащем в основе факте воздержания от удовлетворения природных страстей, существеннейшая разница — в природе этих страстей, которые при неврозе — исключительно сексуального происхождения, в религии — эгоистического». Поистине вавилонское столпотворение противоречий! По прежней теории невротические явления являются следствием неудачного вытеснения сексуальных влечений; социально- психологические образования были следствием удачной сублимации, следовательно устранения возможностей образования неврозов. Теперь оказывается, что и продукты социального творчества обладают невротическим характером. Что такое социальный невроз и каков характер этой болезни? Тут Фрейд сам делает брешь в своей теории. Он порвал со своей теорией сублимации и дал новый образчик невроза, причин, корней и форм которого он не указал. Такая постановка вопроса у Фрейда стоит в неразрешимом противоречии с другими частями системы, уничтожает их. Дальше Фрейд проводит строгое различение между сексуальными и эгоистическими влечениями; до сих пор об этом различии не говорилось. Наоборот, неврозы были par excellence выражением всех антисоциальных, эгоистических тенденций, а идеологии — попытками социализации их путем сублимации. Почему здесь вдруг появилось отступление от ортодоксального учения?
- 67. 67 В анализе социологии фрейдизма в первую очередь нас интересует вопрос, существует ли для фрейдистов классовая психология, и как она ими понимается. Выяснению этого вопроса посвящена специальная книга Фрейда под названием: «Массовая психология и анализ Я и много других работ, написанных учениками Фрейда, как Федерн, Штрассер, Блюэр, Кольнай и др. На этот кардинальный вопрос фрейдисты дают очень сбивчивые ответы. Так, например, Фрейд заявляет, что вопрос о существовании массовой психологии не имеет принципиального значения: «Различие индивидуальной и социальной или массовой психологии, которое па первый взгляд может нам показаться значительным и существенным, теряет при более детальном исследовании свою остроту» («Психология масс», с. 1). Но в той же книге Фрейд выделяет индивидуальную психологию от массовой психологии, указывая на то обстоятельство, что индивид ведет себя в массе с психологической точки зрения по совершенно другим законам. «Она (психология. — В. Ю.) должна бы выяснить этот поразительный факт, что этот понятый ею (с точки зрения индивидуальной психологии. — В. Ю.) индивид чувствует, мыслит, действует при определенных условиях совершенно иначе, чем можно было бы от него ожидать, а этим условием является включение (Einreihunug) его в толпу людей, которая приобрела свойство «психологической массы» («Психология масс», с. 46). Противоречие между этими положениями очевидно. Ученики Фрейда, не колеблясь, считают психоанализ методом индивидуальной психологии, оставляя вопрос о методе массовой психологии открытым; на практике же они переносят методы индивидуальной психологии на общество... По нашему мнению, не может психоанализ, основной целью которого остается всегда индивидуальная психология и метод которого останется всегда инди- видуально-психологическим (курсив мой. — Б. Ю.), стремиться к приобретению преобладающей (dominirende) роли в социологии» (Кольнай, с. 9). Это пишется в книге о фрейдистской социологии, в книге, которая старается дать решительный бой марксизму. Автор признается, что фрейдизм, как таковой, мало пригоден для социологических исследований. «Он (психоанализ) дает для социологии больше, если он остается в своей собственной области и не обнаруживает чисто социологических тенденций» (Кольнай, с. П). Ранк исходит из положения, что социальные явления надо истолковывать индивидуально-психологически, и поэтому он предлагает изучать, например, не течения в искусстве, а становление выдающихся личностей в искусстве. «По отношению к многосторонней и разветвленной проблеме становления художника была заброшена (vernachlдssigt) индивидуально-психологическая точка зрения, которая и является психоаналитической в чистом смысле этого слова, в пользу генетической» (Ранк, Художник, с. 4; курсив мой. — В. Ю.) Тут, несомненно, мы имеем дело с точкой зрения Риккерта и его теории о неповторяемости и индивидуальности исторических процессов. «Благородная изящность» философии Риккерта не преминула оказать свое влияние на стилизаторские
- 68. 68 тенденции фрейдистов. Карлейль является сейчас опять кумиром для многих прекрасных душ. Самого понятия массы, наконец, у Фрейда нет. Под массой он понимает то случайные скопления любой, называемой им «психоло- гическою», массы, в духе Лебона, то, следуя за Дугаллом, под массой он понимает длительные, прочные соединения определенных человеческих групп, приблизительно то, что мы назвали бы классом Но отсутствие знакомства с кардинальными вопросами социологии заставило его видеть в церкви и в армии типические формы масс. Фрейд далек от мысли о классовом строении общества, или, вернее, он не придает этому явлению принципиального значения. ‚Уже это одно обстоятельство осуждает социологические изыскания Фрейда на. полнейшую бесплодность. Всю концепцию масс он воспринял от Лебона, который, в свою очередь, всю свою теорию массы спрепарировал для целей борьбы с социализмом, который, по мысли Лебона, является врожденным свойством французской нации и причиной ее современного упадка; в пример французам он ставит мощные либеральные, антисоциалистические течения англосаксонской расы. Эта «англосаксонская ориентация» сквозит сквозь все произведения Фрейда и фрейдистов, которые свой политический идеал формулируют как «либераль- ный социализм». Дальнейшей характерной чертой коллективной психологии Фрейда является ее формализм. Он рассматривает только формы некоторых коллективных процессов, общие для всех времен и эпох, не обращая внимания на их содержание. А в них же и вся суть. В этом отношении он является продолжателем социологии 3иммеля, которая хотела быть только формальной наукой об обобществлении. Зиммель, в свою очередь, воспринял эту идею форм от Канта, стараясь только перенести приемы кантианства (пропущенные сквозь сито современного возвышенного агностицизма и скептицизма) на социологию. Такой формализм является тоже одним из проявлений современного аисторизма. Раз формы общественных движений всегда одни и то же, тогда история собственно не творится, не дает ничего нового, а топчется на месте. Социологический формализм — это форма страха буржуазии перед исторической ответственностью. Он выражается, на- пример, в работах венского теоретика права и коллеги Фрейда по университету — Кельсена, для которого диктатура пролетариата является тоже формой государственного давления, следовательно, по существу, не отличается от любой буржуазной диктатуры. Зачем в таком случае поднимать напрасный шум? Следуя за Лебоном, и Фрейд видит в массовых движениях и выступлениях явление возврата к первобытным психическим состояниям, явление регресса. «В массе, — говорит Лебон, — исчезают индивидуальные достижения лиц, теряется их своеобразие, массово-бессознательное выступает наружу, разнородное тонет в однородном. Мы можем сказать: психическая надстройка, которая развилась у различных личностей различно, сметается, и открывается однородная для всех бессознательная основа»
- 69. 69 («Психология масс», с. 9). Другими словами: в массовых ‚действиях мы возвращаемся опять в стихию первобытной сексуальности. Мы увидим потом, какие выводы строит Фрейд на этом факте. Тут отмечаем только факт глубокого отвращенья автора к массовым действиям, которые, по мнению Фрейда (и по мнению Лебона), обнаруживают «животное» в человеке. Но не подрывает ли это основы фрейдистской теории? Массовое действие — это одна из форм социализации человека. Но по Фрейду она ведет к обнаружению асоциальных его черт, к их господству, к полнейшей диссоциализации. В социальном действии представляет человек именно в самой яркой форме образ blonde Bestie первобытного человека, то есть невротика. Как возможна фрейдистская социология, если она исходит из понятия, уже a limine отвергающего возможность построения социологии? Но очень часто у стилизаторских натур логическая невязка (а не диалектика!) является связующим звеном прекрасного пафоса и das Fortleitende очень остроумных социологических теорий. У Фрейда очень часто работает сознательно бессознательный механизм ассоциации. И позабыв совершенно о своих антисоциологических построениях, помня только звук «rassenmдssig», он развивает свою расовую теорию уже не в отрицательном, а в положительном смысле. Он рассказывает прекрасные слова о расовой душе и всю ту чепуху, которую в изобилии преподносили нам буржуазные социологи. Как вяжется эта теория о расовых душах с теорией полной однородности человеческого бессознательного, проповедуемого им в другом месте, один Аллах ведает!!! Но как возможна современная (modern!!!) социологическая теория без расовых декламаций? Фрейду вторят другие фрейдистские социологи. Расе посвящает прочувственные странички Кольнай, Мёдер (A. Maeder, «Psychoanalytische Eindrьcke von einer Reise in England», Imago 1912) дает цельную теорию английской расы, Фрейд занимается изысканием более «глубоких» бессознательных основ венского филистера. Факт, что у англичан the ship (судно) — женского рода, является для фрейдистов откровением, которое дает им объяснение дружбы английского народа с морем. И все это преподносится в серьезном тоне с соответствующими кивками в сторону марксизма и использованием реакционной мудрости католического Ницше — Шеллера! Механизм образования масс — чисто сексуальный. Каждая масса имеет вождя или вождей. Масса без вождей не мыслима. Вождь является сексуальным объектом массы. Масса завязывает с вождем «узы любви» (в смысле либидо). Тут уже вкрадывается невязка. Ибо сексуальные отношения — полиморфны, многосторонни. Трудно допустить, чтобы одна и та же личность «вождя» могла быть тождественным объектом так отличных друг от друга сексуальных влечений. Но это затруднение второстепенное. Либидо связывает массу с вождем. Но что связывает членов массы друг с другом? Для объяснения этого явления вводит Фрейд понятие «отождествления» (Identifizierung), в сущности являющееся психоаналитическим перепевом Einfьhlung Липпса. Отождествление заключается в следующем: каждый член
- 70. 70 массы стремится к реализации своего либидо по отношению к вождю. Но он не уверен во взаимности вождя: может быть, вождь предпочитает не данного индивида, а его соседа из массы. Каков выход? Данный индивид отождествляет себя с другим, счастливым членом массы и таким образом переживает в воображении счастье осуществления либидо. Таким образом образуются среди членов массы узы солидарности, которые превращают массу во что-то цельное и прочное. Эта теория массы не только не выдерживает критики ввиду своей фантастичности, но и ввиду своей внутренней противоречивости. Отождествление — это только выражение амбивалентности чувств. В его основе лежит ненависть, вытекающая из убеждения, что вождь предпочел данному лицу другое. Эта ненависть проецируется в сознательное, как любовь, привязанность, чувство общности. Другими словами — гармония Смита среди противоречий интересов, с той только разницей, что смитовская гармония является объективной категорией, чем-то стоящим над обществом, wealth of nations, в то время как эта солидарность чувствуется индивидуумами. «Социальное чувство заключается в изменении бывшего ранее враждебного чувства в положительно окрашенное чувство с характером отождествления». Фрейд говорит дальше, что образование так называемого общего духа (esprit de corps) является обратной стороне медали — взаимного недоверия, причем враждебные чувства играют роль бессознательных, приязненные — сознательных. Но — увы! — психологическая масса отличается тем именно, что в ней сбрасывается верхушка сознательного, и члены массы подпадают под влияние действия бессознательного. Эти чувства ненависти должны обнаружиться. Впрочем, и амбивалентность чувств здесь не проведена последовательно, так как и в области бессознательного, и в области сознательного, взятых отдельно, амбивалентности нет, а существует тут и там одно определенное чувство. Эти затруднения видит и сам Фрейд, и поэтому он не Настаивает на своей теории отождествления. «Наш анализ кажется нам самим неисчерпывающим»,‚— говорит он уныло на с. 98 «Психологии масс» и рыщет в обетованный край спенсерианства, сравнивая стадное влечение (Herdentrieb) общества с влечением к многоклеточности у организмов. Впрочем, это спенсерианство уже было достаточно подготовлено расовыми теориями. Куда же делся психоанализ? VII Мы уже не раз подчеркивали стремление фрейдизма — никогда не осуществленное — к монизму. В конечном счете этот монизм должен был охватывать не только психические, по и общественно-исторические явления. Мы уже указывали не раз на то, что этот монизм никогда не осуществлялся фрейдизмом, или осуществлялся тогда, когда основной тезис фрейдизма воспринимался очень широко, расплывался так, что от чистого фрейдизма
- 71. 71 ничего не оставалось. Новейшие, более вдумчивые фрейдистские авторы отошли совершенно от идей монизму как методологии исследования социальных явлений. У них мы уже имеем дело с цельным учением, которое можно бы противопоставить историческому материализму, — с теорией факторов. «Здесь дело совсем не в том, чтобы построить систему об- основанной психоаналитически психологии религии, а показать только на примерах, которые имеют представительное (reprдsentativ) значение, что может дать психоанализ средствами, которые находятся сейчас в его распоряжении, в деле выяснения трудных проблем религии. Психоаналитические исследования не задаются целью сделать излишними работы специальных наук, но стараются дополнить их с определенной стороны. Поэтому их целью должно быть выдвигание тех сторон пробудем, о которых можно предполагать, что ими можно овладеть психоаналитическим методом. Притом мы никогда не забывали, хотя это не всегда специально подчеркивалось, что есть другие стороны, что религиозные проблемы обладают очень сложным характером, и что только исследования их, предпринятые со всех сторон, могут повести к полной оценке» (Райк, Проблемы психологии религии, с. XIV). Мы, исторические материалисты, тоже не отрицаем колоссального значения всех специальных наук для выяснения общественных явлений с историко-материалистической точки зрения. Не кто другой, как Энгельс, говорит, что исторический материализм не должен быть схематической общей формулой, которая должна нас освободить от тяжелого и упорного труда исследовательской работы. Но процесс исследования мы подчиняем одному принципу. Тут говорится совершенно другое. Психоаналитический метод является одним из методов, равноценным другим методам. Другими словами, получается теория факторов. В таком случае нельзя говорить» о психоаналитической социологии. Это утверждение приобретает еще более веса потому, что основные социологические понятия фрейдизма отличаются, как мы уже имели случай убедиться, такой путаницей, что значимость метода сводится к нулю. И в конце концов, это убеждение преобладает у фрейдистов. Но вся суть дела в том, что, отрицая теоретически применимость психоаналитических методов к социологии, на деле они пользуются преспокойно психоаналитическим методом в конкретных социологических исследованиях. Часто они покидают его и под флагом психоанализа проводят совершенно другие точки зрения, как мы убедимся потом. Взгляд на применимость психоанализа к социологическим явлениям претерпевает, очевидно, постоянное decrescendo. Кольнай, например, утверждает, что психоанализ может объяснить только некоторые социальные явления. Он может объяснить только те явления где чувство реальности не играет большой роли: в первую очередь мифы, сказки, отчасти религии. Чтобы защитить психоанализ, ему приходится отрицать общественный характер философских систем (Кольнай, с. 24). Хорош метод, который может объяснить только часть принадлежащих к одному кругу явлений (идеологии)! Кольнай подчеркивает, что психоанализ не может дать никаких
- 72. 72 объяснений в области политических движений. «Эти вопросы — дело политики и не имеют ничего общего с психоанализом, который, например, в области дискуссии об аграрной реформе или в вопросах о программах может сказать очень мало» (Кольнай, с. 66). Следовательно, в тех областях, которые марксисты считают сердцевиной истории, психоанализ не может сказать ничего. Иногда просыпается у фрейдистов. чувство значения исторического материализма, и даются попытки соглашения этих методов. Но не в значении «доставки» материала психоанализом, а опять в духе теории факторов, причем данное явление истолковывается отчасти психоаналитически, отчасти историко-материалистически. «Эта задача (исследования социальных явлений. — B. Ю.) труднее, чем анализ мифов, питому что элементы, чуждые реальности, являющиеся областью психоанализа, уступают большое место экономическим закономерностям и рациональным умозаключениям (!!?), и так переплетаются с ними, что их вышелушивание (Ausschдlung) является далеко не легким. Какой трудной задачей было бы, например, выяснение в развитии капитализма участия имманентного разло- жения средневековья и участия анального характера1 и связи обоих» (Кольнай, с. 85). Здесь, очевидно, в объяснении капитализма принимают участие и разложение средневековья (wirtschaftliche Gesetzmдssigkeit), и психология анальной сексуальности, как что то поставленное рядом с первым. Причем этого нельзя понимать так, что фрейдисты дают психо- аналитическую теорию зачатков всех идеологий, возникших тогда, когда человек находился на стадии развития между человеком и животным в более узком смысле этого слова, и потом уже исследуют перемены этих идеологий в зависимости от экономической структуры общества. Следовательно: или теория факторов, или чисто-психоаналитическое объяснение общественных явлений, причем исторический материализм отстраняется/ как «экономический мистицизм» (Кольнай, с. 64). Мы уже раньше говорили, что у многих фрейдистских авторов вера в применимость фрейдистского метода к общественным явлениям претерпевает все растущее decrescendo. Следующим этапом этого decrescendo является утверждение, что психоанализ применим только к регрессивным, а не аналогическим (идущим по линии прогресса) общественным явлениям. «Психоанализ может отдаться с наибольшим успехом исследованию таких образований, в которых чуждые реальности тенденции — самые сильные. Массовые импульсы он может объяснить легче, чем развитие различных фаз индустрии. Особенно силен он в области регрессов» (Кольнай, с. 85). Поэтому Кольнай посвящает много труда и времени психоаналитическому исследованию анархо-коммунизма (который, впрочем, сливается у него с коммунизмом вообще), как типическому 1 Капитализм является для фрейдистов сублимацией анальной эротики. Золото маммонизма — это сублимация кала!
- 73. 73 регрессивному явлению. Этому анализу я думаю посвятить потом еще несколько строк. Тут хочу я проследить дальнейший и окончательный этап этого decrescendo. В «Психоанализе и социологии» говорит Кольнай: «До сих пор сравнивали с невротическими регрессиями в первую очередь первобытные общественные идеи, а не регрессии современного общества. Несомненно, что индивид, хотя он подымается над массой, сохранил в сексуальности чисто видовой характер более неприкосновенно, чем общественная группа». Тут выражено так ясно, как это только возможно, убеждение о неприменимости психоанализа в области общественных явлений. Кольнай разделяет здесь недвусмысленно «биологического» человека от общественного и видит ясно несостоятельность всяких попыток перетаскивания биологизма в область социологии. Отсюда это непрерывное шатание и колебание в объяснении социальных явлений, являющиеся самым веским доказательством несостоятельности учения. Я хочу указать на самые главные из них. Явления религии имеют у психоаналитиков четыре различных объяснения. Фрейд ставит религию в связь с так называемыми навязчивыми представлениями (Zwangsvorstellungen) и навязчивыми действиями (Zwangshandlungen). Ядром религии является ритуал — совокупность действий, повторяемых в определенное время с сознанием их необходимости, что является обратной стороной медали вышеуказанного невроза. В «Я и Оно» дает он другое объ- яснение происхождения религии: она стоит в связи с отцовским комплексом и Сверх-Я и выражается в чувстве зависимости и моральной несостоятельности (продукт отождествления с отцом) данного индивида. «Легко показать, что идеальное Я соответствует всем запросам, которые ставятся высшей сущности в человеке. Как заместительное образование (Ersatzbildung) тоски по отцу заключает оно в себе зародыш, из которого образовались все религии. Чувство собственной несостоятельности, возникающее из сравнения Я со Сверх-Я, дает начало покорному религиозному чувству, на которое ссылается исполненный тоски верующий («Я и Оно», с. 44). Совершенно по Шлеермахеру! Ранк дает совершенно другое объяснение религии. У него религия является проекцией человеческой сексуальности. Первобытному сексуальному полиморфизму соответствует религиозный политеизм, который параллельно сужению «сексуального поля» переходит постепенно в монотеизм, продолжением которого является наука. Таким образом паука является последним звеном в развитии религии. Действительно оригинальная теория! Как можно с такой точки зрения объяснить существование науки в Греции при несомненном наличии там политеизма? С другой стороны, такая теория происхождения религии идет в разрез с теорией Фрейда. Религия является формой сублимации человеческой» сексуальности. Но основным принципом теории психоанализа ‚является утверждение, что человечество до сих пор сексуально полиморфно. Следовательно, человек не должен идти дальше политеизма! Впрочем, эту теориию религии нельзя брать всерьез; она
- 74. 74 была нужна Ранку для сохранения стильной линии в одном месте его книги, где автор отдается con amore ницшеанским словоизлияниям; потом Ранк дает еще одно объяснение религии, в основе своей и по замыслу почерпнутое из Фрейда, но по выполнению противоположное. Райк, о котором придется нам говорить еще подробно, ставит возникновение религии в связь с отцовским комплексом, но в другом смысле, чем Фрейд. В то время как у Фрейда религиозное чувство является выражением чувства тоски по убитому отцу, у Райка религия, связанная с религиозным ритуалом, является выражением ненависти убитого отца по отношению к детям. Тут господствует дух мести, свойственный семитским религиям. Навязчивые действия не играют у пего в конкретной обработке большой роли, хотя в теоретическом предисловии он много о них говорит. Зато Ранк очень часто переходит в своих религиозных исследованиях на точку зрения Фрезера там, где психоанализ оказывается несостоятельным. Впрочем, и сам Фрейд не чужд многим идеям Фрезера. У фрейдистов получается еще очень странный курьез, дающий бьющее в глаза доказательство полной произвольности их построений. Для Фрейда религия является выражением навязчивого невроза, философия — выражением параной (выражением параной является, впрочем, как мы увидим потом, и... марксизм). С такой точкой зрения согласен и Кольнай. Но Ранк становится на противоположную точку зрения: «Образование систем, которые в качестве религиозного или мифологического фасада расширяют проекции индивидуальных решений конфликтов до пределов и значения космического, находят свой патологический образ в построениях многих параноиков, нарциссические отождествления которых с богом бросают свет на психологию основателя религии, в то время как невротик, страдающий навязчивым неврозом, по своей психической структуре стоит близко к фило- софу» (Ранк, «Художник», с. 60). Так превратился фрейдизм, наконец, в систему нескольких понятий, при помощи которых мы можем образовать по нашему произволу различные конструкции. В этом ли выражается научность фрейдизма и неумолимый детерминизм, о котором часто разглагольствуют? VIII «Clou» учения Фрейда является его теория комплекса Эдипа или отцовского комплекса, развиваемая этим автором во многих его трудах, всего же яснее и определеннее в «Тотем и табу». Сама эта теория является в дальнейшем продолжением такой же теории Робертсона Смита, который, однако, ‚с присущей ему осторожностью называет ее только гипотезой. Сущность этого учения заключается в следующем. У сыновей семейств существует инцестуозное стремление к матери, как с другой стороны у дочерей — инцестуозное влечение к отцу. Такие же влечения существуют между братьями и сестрами. В первобытной орде, которая является по Фрейду зародышем общества, сыновья ревновали мать к отцу и видели в нем
- 75. 75 своего соперника. Это чувство ревности росло все больше и превратилось, наконец, в жгучую ненависть; она-то, наконец, заставила сыновей сговориться и убить его совместными усилиями. Но убийство не решило задачи. Братья, освободившись от соперничества отца, стали сами соперниками, сами превратились все в отцов. Это обстоятельство заставило их оказаться от инцестуозных ‚влечений к матери и положило начало экзогамии. С другой стороны, убийство отца вызвало у них угрызения совести; личность умершего, бывшего прежде предметом ненависти, превратилась в предмет почитания и тоски. Братья решили соединиться во имя символа отца, сплотиться крепко, что стало возможным благодаря введению экзогамии. Символ отца превратился в социализирующее начало: он-то заставил братьев повиноваться начальнику рода, который стал олице- творением образа отца, в виде тотема — предка рода, отец дал начало религии. Вообще нет ни одной области из общественной жизни, где бы не применялся Фрейдом и фрейдистами отцовский комплекс, который превратился в конек фрейдизма. Это убийство отца и следующие за ним перевороты были чем-то вроде первородного греха человечества (фрейдисты его так и называют) и имели место во всех без исключения ордах. Отзвуки этого убийства остались во многочисленных народных легендах, в самой чистой же форме — в греческом мифе об Эдипе, который убил отца и женился на матеря — откуда и название комплекса. Комплекс Эдипа является фрейдистской аксиомой, которая принимается догматически» доказательства которой нигде не приводятся, аксиомой, на которой зиждется надстройка многочисленных конструкций. А между тем, он является чистейшей фантазией! Уже фрейдисты не доводят своей мысли до конца. Почему они всегда говорят о комплексе отца, никогда же о комплексе матери? Принимают же они: у дочерей то же инцестуозное влечение по отношению отцу. Это инцестуозное влечение должно было вызвать у них тоже трагедии по образу трагедии Эдипа. Почему от них не осталось никакого воспоминания? Или, может быть, можно это объяснить таким образом, что женщина была полом более «слабым», ее трагедии остались незаметными? Но этому противоречит существование матриархата (а не только материнского права). На основании материнского комплекса можно бы тоже построить целое здание социологии, которое при соответствующей ловкости и наличии игривости ума дало бы, вероятно» внешние результаты. Могут же фрейдисты получать тождественные результаты, исходя из противоположных предпосылок (параноя = философия, навязчивый невроз = религия, параноя = религия, навязчивый невроз = философия)! Нужно только хотение! Говорил же Фрейд, что великая страсть является источником самой строгой логики (= страсть, не выносящая никакого противоречия)! Впрочем, уже Фрейд сам разрушил чистоту своей теории. По его же собственной теории каждый человек бисексуален: одновременно он играет роль сына и дочери. Это маленькое обстоятельство запутывает в большой мере логические выводы системы, в
- 76. 76 чем Фрейд и сознается в работе под названием «Я и Оно», с. 38 — 39, немного беспокоясь о судьбах своей теории. «Это вторжение бисексуальности запутывает в высокой степени загадку первобытных выборов предмета и их понятное описание» И на таких хрупких фундаментах построена вся теория! Но беспокоиться нечего! Найдутся люди, которые и на бисексуальности построят великолепный синтез. Один Ранк чего стоит! Вот хотя бы один из возможных синтезов: известно, что раньше мужские боги имели свои женские counterparts; об этом повествует на сотнях страниц, доводя читателя до полного ошеломления, небезызвестный Фрезер. Что легче, чем применить тут теорию бисексуальности и, пользуясь фрейдистским понятием проекции, дать новую теорию мифологии. Нужны амбивалентные чувства, необходимые по Фрейду, для каждой бисексуальности? Сколько угодно! Не являются ли отношения Зевса и Геры олицетворением амбивалентности? (llias, carmen I, III, etc.). Между тем, для отцовского комплекса и для комплекса Эдипа можно дать другое объяснение, не прибегая к произвольным комбинациям Фрейда. Дает его Фрезер на с. 332 своей книги: «The Golden Bough. Abridged edition. London, Macmillan, 1923). Там он говорит: «Среди историй, которые рассказывали о Кинирасе, предке королей-священников Пафоса, и об отце Адониса, некоторые должны привлечь наше внимание. Прежде всего говорят, что он застиг врасплох своего сына Адониса в инцестуозных отношениях со своею же дочерью Миррой во время праздника в честь богини урожая; во время этих праздников женщины должны были в белых одеяниях приносить в жертву снопы злаков, как первые, плоды’ жатвы, и воз- держиваться в течение девяти дней от половых сношений. Подобные случаи инцеста королей с дочерьми являются предметом многих рассказов. Кажется невероятным, что такие рассказы лишены всякой основы, или что они являются выражением случайных взрывов неестественной страсти. Мы склонны думать, что они основываются на практике, имеющей место и сегодня в определенных случаях. И теперь случается часто, что в странах, где королевская кровь текла только в жилах женщин, и где, следовательно, король исполнял свою должность благодаря браку с наследственной принцессой, которая была действительным сувереном, — принц женился на собственной сестре, королевской принцессе, чтобы сохранить с ее рукой ее корону; ибо в противном случае она могла бы дать титул другому мужчине, может быть, иностранцу. Не послужило ли то же самое правило насле- дования мотивом инцеста с дочерью? Является же естественным корреларием для такого правила то, что король должен был покидать престол в случае смерти своей жены, королевы, так как он сохранял его только благодаря своему браку с ней. Когда же этот брак кончался, кончалось вместе с тем и его право на престол и переходило к мужу его дочери. И поэтому, если король желал царствовать после смерти своей жены, единственным путем, по которому он мог законно продолжать свое царствование, был брак с дочерью. Только таким образом он мог сохранить свой титул, который сохранял раньше благодаря ее матери». Подобно тому
- 77. 77 мог сын, который был женат на сестре, на случай ее смерти сохранить королевскую власть, только женясь на матери (случай Эдипа). Впрочем, женитьба на матери имела раньше место не только в королевском роде и не только в эпоху матриархата. Послушаем, что говорит Эрнст Гроссе в книжке под названием «Формы семьи и формы хозяйства»: «Но в прежнее время покупная цена так крепко привязывала женщину, что она по смерти супруга «при всяких обстоятельствах передавалась наследникам вместе с прочим оставшимся имуществом. Если наследник был еще ребенком, то вдовы должны были ожидать его совершеннолетия. Эти факты совсем не двусмысленны» (с. 163). Королевский сын не мог стать наследником королевской власти, так как она передавалась через дочь. Он должен был или совершить инцест, или жениться на чужой королевской принцессе, то есть покинуть дом. В более позднее время, когда уже матриархат исчез, потомки не могли понять этого явления ухода сына из дома. И тогда-то, говорит Фрезер, образовались сказания о сыне-убийце (murderer). Комбинацией этих двух возможностей является легенда об Эдипе, Ее основой является матриархат и материнское наследование (Mutterfolgе), а не фрейдистская метапсихология полов. На этой метапсихологии полов построена вся психология и философия религии у Райка (Reik, Probleme der Religionspsychologie). Уже из прежнего изложения видно, какова ее ценность. Райк рассматривает, главным образом, так называемые сыновни религии, то есть религии, центром которых является восставший против отца-бога сын (Прометей, Христос, Моисей в интерпретации Райка, Дионис, Аттис и др.). Сын обычно потом свергается и наказывается, причем часто с течением времени личность сына сливается с отцовской личностью на основании фрейдистской теории сгущения. Но Фрезер доказал, что эти легенды о смерти сына бога-отца, имеют корни в первобытной магии. Началом религии была по Фрезеру магия, подразделяющаяся на т. н. подражательную и магию соприкосновения (contagious magic). Возникновение магии тесно связано с хозяйственными потребностями того времени. Личность мага была и королем, и богом, и священником. Но в то время существовала вера, что магическая сила с течением времени исчезает. Чтобы все-таки предотвратить возможные бедствия, могущие возникнуть из- за исчезновения магической силы у короля, подданные заставляли его принимать бой с каждым, кто пожелал бы выступить против него, оспаривая его магическую силу и притязая на замещение его. Потом был установлен определенный срок, по истечения которого магическая сила считалась исчезнувшей, вследствие чего бога-мага среди соответствующих пышных церемоний умерщвляли. На острове Крите еще в классическое время пока- зывали сотни гробов Зевсов. Он мог избегнуть смерти, только убивая своего сына, впитывая в себя его молодую кровь. Вот эта-то жертва сына является прообразом сыновних религий (религий сыновей-спасителей). Она легла в основу библейской легенды об Исааке, а не, как утверждает Райк, месть отца сыну за его инцестуозные влечения к матери.
- 78. 78 Идеи Фрезера известны фрейдистам; но они не старались ни разу выразить ясно свое отношение к ним: ни разу, например, не старались воспользоваться рассуждениями Фрезера относительно инцеста и отцовского комплекса. Зато они пользуются ими обильно там, где их собственная система дает трещины. Так, например, Фрейд вводит в свою систему идеи Фрезера о магии под названием идеи о «всемогуществе мысли», которой он объясняет многие явления первобытной общественной жизни. Но у самого Фрейда это вовлечение идей Фрезера не нарушает хотя бы внешне стройности его здания. Зато у учеников Фрейда использование фрезеровских идей ведет к какому-то чудовищному логическому дальтонизму. Так, например» «гениальный» Ранк ставит рядом две теории о возникновении искусства: одну — сексуальную, другую — обоснованную на идеях магии. Посвятив всю свою книгу психоаналитическому исследованию сущности художника и искусства, он вдруг заявляет, что искусство связано с верой в магию, с убеждением, что владение над изображением какого-нибудь животного или какой-нибудь вещи есть одновременно и господство над животным и самой вещью. Ранк оставляет совершенно открытым вопрос, какая гипотеза по его мнению верна, — это предоставляется читателю. Впрочем, типичному литератору Ранку это совершенно безразлично. Идеи Фрезера внешне довольно привлекательны, не в меньшей мере, чем фрейдистская сексуальная метапсихология. Логика? В наше время давно уже замещает логику стремление к эффекту, а стройность мысли заменил интеллектуальный базар... IX Мы уже имели возможность убедиться, что фрейдизму присущи универсалистские тенденции, что он стремится превратиться в своего рода религию будущего, в качестве такового он должен был сразиться с марксизмом и высказать свое отношение к нему. Эту работу проделают Кольнай (не считая Адлера, Федерна и др.) в своей книге «Психоанализ и социология». Эта книга является одним из гнуснейших пасквилей на марксизм и революционное движение пролетариата вообще. Все мотивы из оперы l’’homo delinquente, которые были пущены в ход буржуазией в ее борьбе с социализмом, бледнеют и не выдерживают никакого сравнения со страницами Кольная. Тут говорит только слепая злоба, так что кончаешь книгу с чувством невыразимого отвращения. Стихийная какая-то ненависть заставила автора нагромождать абсурды на абсурды, прибегать к таким противоречиям, по сравнению с которыми разложение мысли у Каутского кажется вершиной логической стройности. Автор говорит в первую очередь об анархо-коммунизме, но это дела не меняет, по следующим причинам: во-первых, автор не различает ясно различных течений среди социализма, во-вторых, в течение своих рассуждений он бессознательно (или — вернее — сознательно) переходит к критике коммунизма, хотя внешне говорит об анархо-коммунизме, в-третьих,
- 79. 79 вводит большевизм, как разновидность марксизма и анархизма, и ему (специально большевизму в России) посвящает свои заключительные страницы. С другой стороны, эти все рассуждения ценны как образчик фрейдистской социологии и обнажают полное ее убожество. Прежде всего надо подчеркнуть, что все социалистические движения Кольнай рассматривает как движения регресса. Стремление к социализму — это стремление общества назад, к той» первобытной стихии, когда начала только образовываться современная культурная «социальная душа». Это основная, исходная, принципиальная установка дает уже ключ к решению подробностей. Мы уже раньше видели, что государево является проекцией комплекса отца. Следовательно, анархизм будет выражением ненависти к отцу. На этой канве вышивает Кольнай узоры своей социологии анархизма. Бомба анархизма — это символ первобытного убийства отца. Но ненависть к отцу сопровождается инцестуозным влечением к матеря. Оно образует вторую слагаемую анархизма — коммунизм. Коммунизм — выражение стремления к слиянию с матерью, вечная тоска о возврате в uterus матери. Коммунизм старается сковать всех людей воедино, спаять их в одно нераздельное целое, подобно тому, как после убийства отца братья стремятся «потонуть» в чреве матери. Это стремление к uterus особенно заметно в аграрно-коммунистических течениях, так как земля, как известно, является символом матери. Этим сопоставлением мать — земля жонглирует Кольнай до тошноты! Анархизм отличается строгой внешней логичностью; уже любовь к заготовлению ‚бомб, «технический пафос» (Technizitдt) у анархистов является доказательством этой логичности. Логицизм анархистов — выражение силы любовной страсти к матери, которая не терпит противоречий (diese Logik ist die physisch keinen Widerspruch duldende Logik der Leidenschaft). Так путем игры слов решается проблема культурной структуры большого революционного течения! Коммунизм и анархизм являются видами общественного невроза типа сумасшествия: коммунизм стоит к анархизму в таком отношении, как паранойя к парафрении (dementia ргаесох). Следует картина классовой психологии пролетариата; революционизм пролетарских масс объясним тем, что пролетариат, как класс, нагромоздил в течение веков большой запас либидо, бессознательных сексуальных влечений, которые не могли сублимироваться из-за его низкого культурного уровня, и которые теперь со всей силой стремятся к освобождению. Специально русский пролетариат сублимирует теперь, после Октябрьской революции, свои садистские влечения. Сейчас он взял на себя в России роль бывших норманнских князей- завоевателей. По культурному своему значению рабочее коммунистическое движение является попыткой возврата к детскому состоянию. Лозунг коммунизма: работай по своим способностям, получай по своим потребностям — чисто инфантильный! Он вызывает образ «хорошего» ребенка. Это «ребячество» коммунизма выражается еще в том, что труд в
- 80. 80 будущем он мыслит себе как своего рода игру (тут Кольнай ссылается на Каутского). У коммунистов. отсутствует та суровая гедоника труда, которая свойственна высокоразвитым обществам, ее заменяет психология учения и игры. Совершенно как у детей! Коммунизм не отрицает современной высокоразвитой техники, наоборот, он хочет оставить ее и в будущем строе, разрушая, однако, всю вызвавшую ее организацию. Коммунистическое общество рисуется коммунистам как общество с колоссально развитой техникой и слабой общественной организацией. Это второй признак инфантилизма (возврата к психологии ребенка) коммунистов, Его можно определить как возврат к вере во всемогущество мысли, присущее всем диким народам, живущим в период магического мировоззрения! Выражением паранойи является и «машинизм» коммунистов, доказательство их логицизма. Влечение к «машинизму» имеет отчасти свои корни и в уретральной инфантильной эротике1 . Основа марксистского учения, исторический материализм, является, с одной стороны, только парафразой капиталистического маммонизма (капитализм, по учению Фрейда, не что иное, как выражение анальной эротики), с другой стороны — воскрешением феодальных концепций Гегеля. Вся разница заключается в том, что на место идеи Гегеля марксизм поставил «мистическое» хозяйство. Коммунизм является собственно неофеодализмом. Марксизм отличается верой в историческую роль пролетариата. Эта вера является только одним из выражений распространенного мотива об исключительной спасительной роли самого младшего сына или вообще малоценной, «нищей духом», личности. Этот мотив — только фантазия желания (Wьnschphantasie) ребенка, который, несмотря на свою слабость и сексуальную малоценность, надеется победить отца в борьбе за мать. Непрерывные жалобы на угнетение рабочего класса буржуазией — сублимация мании преследования. Строгая диалектика Маркса, стройность его теории стоимости — тоже выражение параной, которая вместе с мистической верой в роль пролетариата Приобретает формы религиозной параной. Вершин паранойи и парафрении достиг Фурье! Оценка ревизионистов, Бернштейна и т.д., немножко выше. Для них сфабриковал даже Кольнай «своего» Маркса, который вдруг становится антиматериалистом! Ниже оценка синдикализма. Зато по отношению к большевизму, ‚который Кольнай уже в 1920 году называет ленинизмом, автор не знает никакой меры. Ленинизм является, собственно говоря, военным психозом и должен истолковываться только в связи с войной! Он — чудовищное соединение паров крови и логарифмов (Кольнай, с. 143). 1 Возникновение современной гидростатики в северной Италии в XVI и ХVII столетиях, которое, по истолкованию исторического материализма, стоит в связи с канализационными и оросительными работами в Ломбардии и с потребностями регулирования рвущих альпийских потоков, истолковывается фрейдистами, как научная сублимация уретральной эротики. Уже само сопоставление двух этих толкований решает полный провал второго. Интересно заметить, что Мах, который сначала был фрейдистом, отказался от фрейдизма, когда встали появляться фрейдистские «объяснения» развития механики!
- 81. 81 Отцовский комплект обнаруживается тут в том, что большевизм изгоняет капиталистов и купцов — символы отцов, чтобы тем беспрепятственнее развить свой цезаризм, основанный на новом принципе отца (Кольнай, с. 145). Ленинская концепция, по которой после усиленного террора должен следовать безгосударственный рай — не что иное, как мистическая схема: интраверсия — возрождение. Необычайный рост милитаризма у боль- шевиков и другие признаки (присвоение феодальной политики иезуитизма, система подкупа, agents) доказывают, что большевизация мира равнялась бы его атомизации! Лозунг: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!‚— не что иное, как классовое выражение гомосексуализма! Наконец, автор дает «классический» синтез: на деле надо под большевизмом понимать феодальный средний путь между прямолинейной регрессией анархизма и параноидной регрессией марксистского социализма (Кольнай, с. 144). Автор считает большевизм специфически русским явлением и дает, ссылаясь на «глубокие» историко-философские, «rassenpsychologische» исследования Гессе («Die Brьder Karamasoff oder der Untergang Europas», — «Neue Rundschau» 1920), такое определение большевика: большевик — это переходный тип между европейским пролетарием и «русской душой». Русская же душа — это выражение регресса, возврата в азиатскую родину, в прамать (комплекс Эдипа), отвращение к какой-либо этической норме, влечение к единству добра и зла. Одним словом, «опасный, чувствительный, безответственный, обладающий притом нежной совестью, мягкий, мечтательный, жестокий, глубоко-детский (kindlich) русский человек». Круг замкнут: акушером психоанализа стал Мережковский!!! Другие авторы повторяют то же самое, только с меньшей силой выражения. И иначе не может быть, так как идея комплекса Эдипа должна быть для психоанализа исходной точкой их социологических построений. С отрицанием же этой идеи рушится и весь психоанализ. В заключение я хочу дать еще фрейдистское истолкование выступ- ления на историческую сцену Наполеона, данное Йекельсом (Jekels, Der Wendepunkt im Leben Napoleons). Критическим моментом для Наполеона было его отпадение от Паоли и объявление войны Англия Французской республикой. Тайные переговоры Паоли с англичанами вызвали у Наполеона отвращение к представлению: attaquer la patrie avec les йtrangers (нападать на родину вместе с чужеземцами) и «свести мать с чужим». Франция играла для Наполеона роль матери. Смерть Людовика XVI и освобождение таким образом матери от соперника отца была для Наполеона сигналом для действия. И тут стремление инцеста стало ключом к величайшей исторической драме. * *
- 82. 82 Фрейдисты — натуры героические. Они детерминисты и считаются с явлением социализма, как с непредотвратимым фактом. Что социализм — это выражение деградации и распада общества, от того дело не меняется. Они не знают сантиментов. Они читали Шпенглера, его книжка не даром написана. Социализм является необходимым «моментом» в их историософии. Социализм, который является возвратом человечества к детству, будет и концом, и началом новой эпохи. Крепкий, первобытный, природный народ вытеснит высококультурные народы (Ранк). История начнется сызнова. В последние дни перед Великой Французской революцией французская пресыщенная аристократия замечтала вдруг об естественности. Идиллический Грез (Greuze) и сильный, первобытный, крепкий, природный китаец — стали ее кумиром. Не является ли это совпадение симптоматическим?.. Под знаменем марксизма, 1924, № 8–9, с. 51–93
- 83. 83 Психоанализ как метод исследования художественной литературы И. Григорьев I Научное значение каждой теории следует расценивать не только по тем непосредственным результатам, которые достигаются ею в своей области, но и по многочисленности тех импульсов, которые вызываются теорией в областях соседних и отдаленных дисциплин. В этом отношении психоаналитическую теорию З. Фрейда, первоначально возникшую из потребностей медицины и затем вызвавшую ряд гипотез в психологии, социологии, истории культуры, следует признать весьма плодотворной. Для представителей поэтики (неформальной) совершенно очевидно, что теория Фрейда в некоторых частях своих может быть использована и для литературоведения. Правда, те попытки применения психоаналитического метода к изучению явлений литературного искусства, которые имели место, например, в работах проф. Ермакова, способны только компрометировать этот метод и надолго отбить охоту прибегать к нему; но это произошло отчасти от случайных обстоятельств научных качеств исследователей, отчасти от обычной горячности первых адептов, которые всегда «plus royalistes, que le roi meme». Теперь, когда первоначальный пыл увлечений фрейдизмом несколько остыл, можно спокойнее и объективнее решить, какие стороны фрейдизма и как могут быть использованы литературоведением. Метод психоанализа необходимо рассматривать в связи с системой Фрейда в целом, иначе в нем трудно ориентироваться и можно повторить те ошибки, которые уже сделаны. З. Фрейд в своих работах далеко ушел от первоначальных узкомедицинских наблюдений над сексуально- патологическими явлениями и, как ум большого теоретического размаха, подошел к последним широчайшим обобщениям. Правда, теперь, когда здание системы Фрейда подходит под купола, оно много теряет в своей оригинальности, не так блестяще и неожиданно, как первоначальные части — теория ошибок, сновидений, остроумия: многое вызывает в памяти величественные метафизические системы Платона, Шопенгауэра и др.; но зато в системе фрейдизма отдельные стороны становятся понятнее, и легче решить, что может быть использовано для целей литературоведения. Таким образом, решению задачи, указанной в теме данной статьи, необходимо предпослать хотя бы коротенькое изложение системы Фрейда. Ее, когда она уже построена, удобнее излагать, начиная с наиболее широких обобщений, сообщенных в книгах Фрейда: «Я и Оно», «Психология масс и анализ человеческого Я», «Тотем и табу». II
- 84. 84 По мнению Фрейда, в основе человеческой психики лежат два первоначальных, дальше неразложимых, влечения: сексуальное влечение и влечение к смерти1 . Они во всем противоположны — любовь и ненависть первая организует, объединяет, ведет к продолжению жизни; вторая — разъединяет, разрушает, ведет к уничтожению жизни. Осторожный Фрейд не говорит прямо, но близко подходит к утверждению, что и материально- биологические силы притяжения, и отталкивания суть проявления влечений любви и ненависти. «Каким образом влечения того и другого рода, — говорит Фрейд (с. 40 «Я и Оно»), — соединяются друг с другом, смешиваются и сплавляются — остается пока непредставимым; но что смешение происходит постоянно и в большом масштабе, без такой гипотезы нам по ходу наших мыслей не обойтись. Вследствие соединения одноклеточных элементарных организмов в многоклеточные живые существа удается нейтрализовать влечение к смерти отдельной клеточки и с помощью особого органа отвлечь разрушительные побуждения во внешний мир. Этот орган — мускулатура, и влечение к смерти проявляется, таким образом, — вероятно, впрочем, лишь частично — как инстинкт разрушения, направленный против внешнего мира и других живых существ». Представляется соблазнительным этот дуализм — сексуального и разрушительного — влечение свести к монизму эроса, причем в этом случае инстинкт разрушения пришлось бы определить отрицательно, как удовлетворенное эротическое стремление. В самом деле, на это предположение подталкивает и умирание некоторых видов животных при размножении, и состояние человека после полового акта, похожее на умирание. Но Фрейд не находит возможным сделать этот вывод, образно подчеркивая только то обстоятельство, что весь шум жизни поднимается неудовлетворенным эросом. Все остальные чувства человека — нежность, родительские чувства, дружба, ненависть и т.д. — представляют собой самые разнообразные виды транспонирования (переложения), сублимирования (переработки) упомянутых первоначальных и неразложимых влечений — любви и ненависти. Фрейд подчеркивает, что таким образом, исходное положение его системы сходно с платоновским учением об эросе: поражает только непривычного читателя медицинская терминология, кажущаяся буржуа скабрезной и дразнящая его. Заложенное в глубине человеческой личности эротическое влечение — стихийно, слепо, неоформленно, во всем видит только хворост для своего огня. Эту стихию Фрейд называет безлично Оно: опять было бы соблазнительно признать, по старым философским образцам, безличное эротическое влечение общим единым началом для всех людей, разбивающимся на индивидуальные ручейки, но Фрейд, если не ошибаемся, обходит решением этот вопрос. 1 В текущей журнальной литературе несколько раз ставился вопрос о том, насколько психоанализ совместим с марксистской теорией: при решении этого вопроса не следует забывать исходного положения фрейдизма.
- 85. 85 Эротическая стихия Оно, направляясь изнутри к внешнему миру, дифференцирует (выделяет) из себя Я-сознание, посредника между собою и внешним миром. Я-сознание, в противоположность Оно, зрячее, то есть значит, что для Оно можно и чего нельзя. Я-сознание — чувство реальности, обуздывающее Оно, служащее как бы сложной плотиной между Оно и внешним миром. Фрейд остроумно сравнивает Я с седоком, который управляет буйной лошадью; но было бы иллюзией думать, что этот седок направляет лошадь, куда хочет: на самом деле происходит обратное — лошадь влечет за собою всадника, и всаднику только кажется, что он едет по своему усмотрению; в действительности же на его долю выпадает только следить за тем, как бы стихийное слепое Оно не разбилось в своем бешеном галопе при столкновении с внешним миром. Как же выполняет Я-сознание свои функции по обузданию Оно? Ответ на этот вопрос позволяет нам вплотную подойти к проблеме архитектоники личности так, как ее мыслит Фрейд. Я-сознание вытесняет в область бессознательного биологически опасные представления (влечения)1 и старается заменить их другими. Таким образом, получается следующая архитектоника личности: стихийное Оно, Я-сознание — посредник между Оно и внешним миром, — и система бессознательных вытесненных представлений. Последняя (система вытесненных представлений), определенным образом сконструированная, и выполняет функцию обуздания Оно: запрещает Оно то или другое, отводит его влечения в безопасное русло. Эту систему вытесненных представлений, являющуюся вместе с тем системой запрещений, Фрейд называет, по причинам отчасти уже сейчас понятным, Я-идеалом, совестью, долгом. Причем Фрейд подчеркивает то колоссальное значение, которое имеют при построении Я-идеала социальные элементы: железная традиционность норм нравственности и права. Фрейд не говорит об этом, но можно было бы, на основании приводимого им материала, систему Я-идеала рассматривать отчасти как систему родовой памяти: система сексуальных запрещений передается из поколения в поколение. Как показывает историко-культурное исследование Фрейда «Тотем и табу», племена, находящиеся на самых первых стадиях культурного развития, знают уже крайне жесткую систему сексуальных запрещений. Недаром система Я-идеала, совесть иначе, переживается как безличная, внешняя стихия. Присмотримся теперь к содержанию отношений между Оно, Я- сознанием и Я-идеалом. Сексуальное влечение в первые моменты внеутробной жизни ребенка направляется на него самого: ребенок сам является объектом своих сексуальных влечений (автоэротизм). Этот «нарцизм»2 , как называет его Фрейд, выражается в сексуальном отношении ребенка к своему телу, по- 1 Для Фрейда во всяком представлении центральной и существенной частью его является влечение. В этом отношении он существенно расходится с интеллектуалистической школой в психологии, для которой в представлении самой ценной его частью является элемент познавательный. 2 От мифической легенды о Нарциссе, который влюбился в свое отражение в реке.
- 86. 86 разному выражающемуся. Обычно в этот период сексуальное чувство связано с актами дефекации (физиологические отправления). Замечено, что дети искусственно задерживают выделения, для того чтобы потом острее испытывать сексуальные чувства. Кроме того, к выделениям своим дети относятся как к чему-то близкому, как к части своего тела. Ясно, что такие влечения детей встречают обычно решительное сопротивления со стороны окружающей среды: из таких столкновений уже в этот период складывается система Я-идеала, в самых разнообразных формах оказывающая сильнейшее влияние в последующие годы на поведение человека. Фрейд строит цельную характерологию, в которой черты упрямства, скупости, аккуратности, распущенности, мотовства и т.д. объясняются тем или иным отношением человека к процессам дефекации в детском периоде (см. Фрейд З. Психология и учение о характерах. Гос. изд. 1924 г.). В дальнейший период сексуальное чувство ребенка направляется на мать, если ребенок мужского пола, или на отца, если ребенок — девочка1 . Причем отец (мать) рассматривается, как соперник, с известной дозой недоброжелательности или просто враждебности (эдипов комплекс)2 . Но отношения к отцу не просто враждебны: эта враждебность сменяется нежностью либо существует одновременно с ней; отношения ребенка к отцу амбивалентны, выявляясь то той, то другой стороной. Как только возникает эдипов комплекс, система Я-идеала начинает свою работу по вытеснению сексуальных чувств к матери и враждебности к отцу. Это вытеснение производится самыми разнообразными приемами. Наиболее нормальным представляется тот, при котором заторможенное сексуальное влечение направляется на постороннюю женщину, которая всегда бессознательно замещает мать, но без препятствий к сексуальной цели. Что касается отца, то враждебная установка по отношению к нему преодолевается чувством гордости за отца, преклонением пред его могуществом ребенок идентифицирует (отождествляет) себя с отцом. Он и ранее был склонен заменить матери отца, но теперь сексуальное влечение исключается. В случаях осложнения сексуальное влечение может искать самых разнообразных путей: нарцизма, гомосексуализма3 и т.д. Было бы громоздко вслед за Фрейдом повторять все сложнейшие и запутаннейшие приемы замещения эдипова комплекса». Достаточно отметить, что, по мнению Фрейда, вся последующая сексуальная жизнь человека строится по образу эдипова комплекса». При невозможности найти нормальное решение эдипова комплекса» возникает ряд неврозов, также самых разнообразных: начиная от разного рода фобий (страхов) и кончая садизмом и мазохизмом. При неврозах у 1 В дальнейшем для удобства и во избежание лишних повторений мы будем говорить о мальчике ребенке только. 2 От греческого мифа, в котором Эдип убивает своего отца и женится на своей матери. См. трагедию Софокла «Эдип-царь». 3 Так называется сексуальное влечение представителей какого-нибудь пола к своему полу (иначе - педерастия и лесбийская любовь).
- 87. 87 больного обычно появляется серия симптомов (некоторых действий), причина и смысл которых тщательно скрыты. Попытки врачей выяснить причину симптомов путем расспросов самих больных встречаются с препятствием: больные всячески, правда бессознательно, мешают добраться до истинной причины. Расспросы больного, анализ всплывающих в его сознании представлений (психоанализ) приводит в конце концов к источнику болезненных симптомов — эдипову комплексу». Теперь, когда больной сам знает причину болезненных симптомов, он обычно освобождается от них: знание действует катартически (очищающе). В трудных, плохо поддающихся лечению случаях неврозов, проистекающих из неразрешенного нормально эдипова комплекса, Я-идеал, или совесть — преследует человека, мучает его (угрызения совести, приводит, как уже было сказано, к ряду фобий, к меланхолии или, как бы изнеможенное само в борьбе, сливается с Я-сознанием, и то, ликующее освобожденное от запретов, впадает в манию влечения. Сексуальная точка зрения последовательно проводится Фрейдом на общественные и на космологически-религиозные отношения человека. Такие организации, как войско и церковь, цементируются сексуальными чувствами входящих в эти организации единиц к царю, главнокомандующему (и ко всякому начальнику вообще) и ко Христу. Отношения к царю, начальнику, суть сублимированные отношения к отцу, то любовно-почтительное, то ненавистное. То же касается и «отца небесного»: отсюда двоякое отношение к нему — религиозное и атеистическое, подобно амбивалентным чувствам к отцу. «Церковь, — говорит Фрейд, — отличается демократизмом именно потому, что перед Христом все равны, все пользуются в одинаковой мере его любовью. Не без глубокого основания однородность христианской общины сопоставляется с семьей, и верующие называют себя братьями во Христе, то есть братьями по любви, уделяемой им Христом. Несомненно, что связь каждого индивида с Христом является и причиной их привязанности друг к другу. То же относится и к войску: главнокомандующий — это отец, одинаково любящий всех своих солдат, и в силу этого они объединены друг с другом товарищеской привязанностью. Войско отличается по структуре от церкви тем, что оно состоит из ступеней таких масс. Каждый командир является как бы начальником и отцом своей части, каждый унтер-офицер — своего взвода» («Психология масс», с. 35). Если влечение к отцу сублимируется (претворяется в любовь к богу, царю и начальнику, то влечение к матери сублимируется в любовь к родине и — шире — к матери-земле. III Подводя итоги конспективно изложенной фрейдовской теории, приходится отметить, что она включает в себя ряд неравноценных моментов: одни представляются плодотворными и достаточно обоснованными гипотезами, другие менее плодотворны и менее обоснованны. К
- 88. 88 плодотворным гипотезам я отношу фрейдовскую гипотезу динамического бессознательного, с ее индивидуальными и социальными функциями; ко вторым — собственно сексуальную теорию и главным образом гипотезу эдипова комплекса». К счастью, эти стороны теории Фрейда не связаны друг с другом неразрывно: настолько, что теорию динамического бессознательного можно излагать, совершенно не касаясь проблем специфически сексуальных, как это делает и Фрейд, излагая теорию ошибочных действий, остроумия и отчасти сновидений. Резюмируя громадный материал; предложенный Фрейдом, мы также сформулируем эти части фрейдизма отдельно, чтобы выделить то, более или менее бесспорное, что у Фрейда имеется и что может быть использовано литературоведением теперь же. Вытесненные представления, как было указано, образуют систему бессознательного. Содержание этого понятия у Фрейда совершенно иное, чем в старой психологии. Старая психология либо совершенно отрицала понятие «бессознательного», как contradictio in objecto (противоречивое понятие), либо чисто словесно обозначала им некоторый Х (неизвестное) в явлениях сознания: именно старая психология говорила о забытых представлениях, что они до своего воспроизведения хоронятся в бессознательном; таким образом, в этом случае бессознательное мыслилось чем-то вроде ящика, в котором до поры до времени складывались представления. По Фрейду, вытесненные представления не лежат бездеятельными, они организуются в некоторую систему, которая динамична, пружинит, обладает силой: толкать человека на одни поступки и удерживать от других. Бессознательные представления сплошь и рядом врываются в сознание, правда, сублимированные, искаженные, как бы переведенные на другой язык, транспонированные в символические значки, но при известном опыте мы всегда можем за маской открыть подлинное лицо. С помощью особой операции, называемой Фрейдом психоанализом, мы можем добраться до самых глубин бессознательного, самые глубокие слои его мы можем поднять в сферу сознания; с помощью разбора тех представлений, которые всплывают в сознании человека по поводу какого-нибудь непонятного симптома, мы добираемся до значения его, до того бессознательного намерения, которое в симптоме выражено. Если, например, академик в своей речи говорит, что он «не склонен» (вместо не способен) оценить научные заслуги своего предшественника, то психоанализ дает возможность установить подлинные чувства говорящего к своему предшественнику. Аналогичными примерами заполнены трактаты Фрейда об ошибочных действиях, остроумии и сновидениях. То обстоятельство, что бессознательное в то или иной форме вмешивается в жизнь сознания, обнаруживается в нем и, следовательно, подвержено наблюдению, — позволяет быть понятию бессознательного понятием позитивным, а не метафизическим.
- 89. 89 В динамическом бессознательном, как уже было указано, большую роль играют социальные и родовые моменты. Системы религии, нравственности (совести) и т.п., входящие составными частями в Я-идеал, являются такими социально-родовыми моментами динамического бессознательного. Отсюда объективный характер моральных и религиозных представлений, действующих принудительно, как внешняя сила. В установлении позитивного характера моральных и религиозных ценностей, в развенчании того мистического ореола, которым эти ценности окружались и окружаются, в анализе техники, с помощью которой эти ценности создаются, — большая заслуга фрейдизма, и кое-чему здесь марксистам можно и следует поучиться. Марксистская теория обладает бесспорно правильным положением, по которому идеология (искусство, религия, нравственность и т.п.) рассматривается как надстройка над базисом производственно-экономических отношений; но большие затруднения в некоторых случаях представляет показать технику этой надстройки. Правда, фрейдовская теория при истолковании идеологических надстроек исходит из другого базиса — сексуального, но думается, что приемы истолкования могут быть использованы и марксистской теорией. Что касается сексуальных моментов фрейдовской теории, то они, как было сказано, и более спорны и менее плодотворны, за исключением психиатрии, значение для которой фрейдовской теории, по-видимому большое, мы не беремся оценить. Основной порок сексуальной части фрейдовской теории заключается в некоторой недоговоренности ее. Признавая основным изначальным элементом жизни человека сексуальное влечение, Фрейд только вскользь указывает, что наряду с ним имеются иные могучие стимулы поведения, как например, голод, причем взаимоотношений этих иных стимулов с сексуальным влечением не устанавливает. Но все наблюдаемые факты жизни организуют односторонне, сводя их исключительно к сексуальному влечению, игнорируя другие стимулы поведения человека, как будто бы их вовсе и не было. Это было бы методически законно лишь в том случае, если бы Фрейд совершенно ясно и недвусмысленно заявил, что все стимулы человеческого поведения нацело и без остатка могут быть сведены к сексуальному влечению: в противном случае односторонняя организация фактов под углом сексуального влечения, при искусном проведении производящая впечатление гипнотически убеждающее, тем не менее методологически незаконна. Это особенно касается ядра сексуальной истории — эдипова комплекса», применение которого в литературоведении дало наиболее отрицательные и монотонные результаты. В конечно счете оказывается, что все писатели питали сексуальные чувства к матери и нелюбовь к отцу и все творчество их представляет собою различное варьирование этого лейтмотива. Насколько убедительно это доказывается, к каким ухищрениям и вывертам приходится
- 90. 90 прибегать при этом исследователю, мы увидим из разбора одной из талантливейших работ этого рода — Нейфельда о Достоевском1 . IV Что может дать литературоведению фрейдовская теория динамического бессознательного? Она может внести ясность в запутаннейшие вопросы психологии творческого процесса, в вопросы взаимоотношения между художником и созданным им произведением, между произведением и действительностью; она позволяет установить органический взгляд на совокупность произведений художника как на некоторое единство. Творческий акт — поведение художника. Задача творческого акта — не отобразить действительность и не познать ее пассивно, но выразить явное, а чаще скрытое, «бессознательное» в фрейдовском смысле, отношение художника к жизни, его намерения. Это поведение художника — особой природы: художник свое отношение к жизни выражает не всегда прямо и непосредственно, но транспонирует его в художественные знаки — образы, символы, ритм и т.д. Формальная теория «приема» есть, в сущности, теория этих знаков. И чем искуснее художник, тем глубже запрятаны в художественных знаках его намерения, тем труднее добраться до них, подобно тому как в символах сложного сна трудно разгадать иногда дневное бессознательное намерение. Теория реалистического искусства как искусства, бесстрастно познающего действительность, отражающая его, теория, связанная, вероятно, с интеллектуалистической теорией представлений, должна пасть вместе с падением интеллектуалистической психологии. Действительность, поскольку она отражена в сюжете, образах и т.д., — только прием для обнаружения намерений художника. Это не значит, что действительность не отражается в художественном произведении: она не может не отражаться, поскольку намерения художника, его поведение развертываются в действительности. Но центр тяжести — не в отражении: если мы будем искать в художественном произведении только отражение действительности, мы не поймем правильно взаимоотношений между художником и его произведением. Человек с острым вниманием, художник проглатывает жизненные впечатления, но не все: уже в стадии восприятия художник, вероятно, производит отбор сообразно своим основным влечениям; следует отказать от представления о художнике как о человеке, который сидит на окошке и наблюдает все подряд. Кроме того, все воспринятое художником подвергается в области его динамического бессознательного тщательной обработке: в этой обработке весь воспринятый материал используется художником как материал для транспонирования своего намерения. Подобно 1 Нейфельд И. Достоевский. Под ред. проф. З. Фрейда. Изд. «Петроград». Л., 1925 г.
- 91. 91 тому как в символы сна врывается вытесненное намерение, так и в знак художественного произведения, но более искусно, транспонировано намерение художника. Неоднократно отмечался катартический характер искусства: порожденное ущербностью жизни, неудовлетворенным влечением, часто неясным самому художнику, оно так или иначе разрешает жизненную задачу. Тем обстоятельством, что процесс транспонирования производится в области бессознательного, объясняются и те черты творчества — спонтанности (самопроизвольности) и неожиданности, которые засвидетельствованы многими художниками. Исследования Фрейда позволяют нам скинуть мистические покрывала, которые издавна украшали это процесс, и так же позитивно понимать его, как понимаем мы процесс транспонирования дневного намерения в знаках сна. Таким образом, каждое художественное произведение подобно загадочной картине, в которой с помощью ряда приемов скрыто поведение человека. То же можно сказать и о ряде художественных произведений: он ограничен; достаточно найти шифр для понимания его, чтобы столь отличные не первый взгляд друг от друга произведения обнаружились как звенья одной цепи. Воспринимающий художественное произведение подобен толкователю сна, который за символами сна ищет неосознанных намерений. Или по- другому — художественное произведение подобно группе непонятных симптомов: воспринимающий должен их истолковать. Фрейд, как мы говорили, добирается до значения симптомов путем психоанализа. Необходимо подчеркнуть, что психоанализ в точном смысле слова совершенно неприменим к истолкованию художественного произведения, когда мы сплошь и рядом не имеем автора в живых или не имеем возможности его расспросить. О Психоанализе в применении к истолкованию художественного произведения можно говорить лишь словно, как о сходном методе. В этом случае наводящие вопросы и всплывающие представления должны заменить в совокупности сопоставление одних произведений художника с другими, сопоставление их с его мемуарами, дневниками, письмами, публицистическими и научными работами, если они имеются, с воспоминаниями о художнике его близки и знающих его лиц и т.д. Весь этот, пусть большой, материал все же не может заменить прямых показаний подвергаемого психоанализу человека, — поэтому так тщательны должны быть наши изыскания материалов и так осторожны во многих случаях гипотетические выводы. Но зато, когда за сложной системой художественных знаков мы находим жизненное поведение художника, мы находим самое главное. Можно, конечно, рассматривать художественное произведение и как систему отражений действительности, но в этом случае мы получаем от него значительно меньше, чем оно может дать, не говоря уже о том, что, как было установлено, отражение действительности никогда не бывает полным, и в самом характере отбора уже заключено поведение художника.
- 92. 92 Отсюда вывод — каждое художественное произведение и еще больше совокупность их выражают систему идеологии художника. Художник всегда идеолог и никогда — незаинтересованный, бесстрастный наблюдатель. Вещи, казалось бы, ультраобъективные и реальные и не имеющие по сюжету и другим элементам никакого отношения к художнику, на самом деле являются особой формой жизненных суждений, транспонированных в художественные знаки. V Таким образом, теория Фрейда дает нам возможность искать в художественном произведении поведение его творца. Критик, следовательно, должен уметь произвести обратную транспонировку от художественных символов к поведению художника. Научная осторожность требует при этом допускать возможно меньше предпосылок. Если мы допустим, что художественное произведение представляет собою систему значков какого- то поведения, то вопрос — какое это поведение? — должен решиться путем тщательного исследования, путем сопоставления самых разнообразных материалов. Имея в виду особенно, что при исследовании художественного произведения неприменим психоанализ в точном смысле этого слова, мы не имеем права делать какие-нибудь догматические предпосылки относительно природы поведения художника: здесь особенно неуместно интуитивное предрешение ответа. К сожалению, немногочисленные, правда, исследования литературных произведений по методу психоанализа грешат отсутствием этой необходимой осторожности. Все они, в согласии с основной мыслью Фрейда, наперед убеждены, что загадочная художественная картинка расшифровывается однозначным способом, а именно: за знаками художественного произведения скрывается сексуальное поведение художника, а не какое-нибудь иное. Кроме того, это сексуальное поведение складывается по типу эдипова комплекса»: таким образом, не только данное произведение художника, но и весь цикл его произведений представляет собою переложение самых ухищренных вариантов эдипова комплекса», то есть сексуальных отношений художника к своим родителям. Отсюда другая предпосылка, обычная у фрейдистов-литературоведов: образ художественного произведения играет роль сексуального символа. Мы уже говорили, что образ в художественном произведении играет ту же символическую роль, что и образ в сновидении; но фрейдисты утверждают, что метафорический характер образа позволяет спрятать в него сексуальное вытесненное стремление. Сексуальная символика образа тщательно разработана Фрейдом. Он приводит ряд вещей и действий, которые благодаря метафорическим признакам близко, а иногда очень отдаленно
- 93. 93 напоминают либо половые органы — мужские или женские, либо акт совокупления и т.д.1 Причем, исследуя сексуальную метафоричность образа, Фрейд обращается иногда для подкрепления своей позиции к народному коллективному мышлению, бессознательно выработавшему сексуальные метафоры и широко ими пользующемуся. Так, например, метафорически отождествлялись в народном сознании «золото» и «коло». К этому можно было бы присоединить из народной поэзии пример метафоричности «змеи» как мужского начала в половом акте2 . По саду, саду зеленому, ходила гуляла молода княжна Марфа Всеславьевна, Она с камени скочила на лютого на змея. Обвивается лютой змеей около чобота зелен сафьян Около чулочика шелкова, хоботом бьет по белу стегну. А втапоры княгина понос понесла, а понос понесла и дите родила. («Волх Всеславьич») С большим сомнением к такому исследовательскому приему заставляет отнестись то обстоятельство, что не всякое ведь слово имеет сексуальное значение — по крайней мере, в некоторых случаях слова обозначают предметы, действия, качества и т.д., которые прямо в них выражены; а между тем особенно ретивые психоаналитики типа проф. Ермакова готовы утверждать, что чуть ли не каждый термин художественного произведения сексуально символичен. При известной установке ожидания, при известной направленности мышления, при esprit mal tourne какой же предмет или действие не сможет как-нибудь отдаленно напомнить либо половые органы, либо половой акт? Если наперед утверждать, что всякий символ художественного произведения обязательно сексуальный, то в шинели, как это делает проф. Ермаков, можно увидеть символ женского полового органа. Читатель, встречающийся с такого рода утверждениями, может так опешить, что не сумеет даже сказать: «А ведь, может быть, сапог и шинель просто предметы одежды... «Я-идеалом» Кстати, об этом представителе русского психоанализа. Его психоаналитические исследования творчества Пушкина и Гоголя создали ему неважную прессу. Отзывы об этих книгах были исключительно резкими, и в этой исключительности повинен сам проф. Ермаков: некоторые очень ценные крупицы его исследования облеплены, подобно сладкой начинке, таким количеством горького теста сексуальной безвкусицы, что, прежде чем доберешься до этих крупиц, совершенно расстраиваешь восприятие неудобоваримым текстом. Эта безвкусица особенно проявляется в истолковании символики, о которой мы сейчас говорили. 1 «Введение в психоанализ», т. II, ГИЗ, 1924 г. 2 Из неопубликованной работы А. Гербстмана «Опыт психоанализа творчества Лермонтова».
- 94. 94 Так как у нас нет сейчас под руками книги проф. Ермакова о Пушкине (где имеются такие перлы, как этимологическое производство александрийского стиха от имени поэта Александра, как указание на то, что имя героини «Мавруши» напоминает о мавританском происхождении поэта и т.д.), то мы приведем некоторые толкования из книги о Гоголе. В «Повести о том, как поссорились Ив. Ив. и Ив. Ник.» ружье — причина их ссор, — конечно, символ мужского полового органа — фаллоса, который у Ив. Ник. бездействует (так как ружье тоже бездействует). Но еще лучше о «Шинели». Башмачкин и «Значительное лицо» теряют свои шинели в состоянии эротического возбуждения и половых стремлений, причем это половое стремление Акакия Акакиевича и «Значительного лица» усматриваеся в коротеньких фразах о том, что Ак.Акакиевичу, приобретшему шинель, хочется приударить за какой-то дамой, а «Значительное лицо» собирается ехать к Каролине Ивановне. В другом месте про Башмачкина и Петрушку из «Мертвых душ» говорится, что оба они с интересом относились к словам «Не потому, чтобы их интересовали смысл или значение их, а особенность начертания, длина их и т.п. признаки (анальное — длинные или короткие)»1 . Фамилию штаб-офицерши Подточиной из «Носа» проф. Ермаков этимологически производит от глагола «подточить»: она подточила нос Ковалева, причем под носом подразумевается опять же половой орган. Чтобы дать полное представление о той произвольности, с которой строятся истолкования художественного образа, следовало бы привести книгу проф. Ермакова целиком. Только человек, преодолевший эту безвкусицу, может получить представление о всей чудовищности произвола, о всех натяжках, которые допускаются для сексуального истолкования символа. Проф. Ермаков, слово в слово переводящий произведение на сексуальное значение, не хочет видеть, что любой символ, сексуально толкуемый им, допускает иное толкование, причем ни свое толкование не обосновывает достаточно, ни иные возможные толкования не опровергает. Мы беремся, по методу проф. Ермакова, «с листа» истолковать любое произведение в сексуальном смысле. Эта работа проф. Ермакова должна отрезвляюще подействовать на чрезмерно увлекающихся фрейдистов. Как было сказано, с точки зрения фрейдизма сексуальные символы в художественном произведении облекают эдипов комплекс»: все произведения художника являются различными вариациями на эту основную тему. В своем чистом виде эдипов комплекс» представляет собою сексуальное влечение к матери, связанное с враждебным чувством к отцу как к сопернику. Не говоря уже о том, что эта точка зрения, как уже отмечалось нами, либо молчаливо допускает, что сексуальное чувство является единственным первоначальным влечением, на которое разлагаются все остальные влечения, либо игнорирует все остальные влечения, — самая формулировка эдипова комплекса» осложняется такими элементами, которые заставляют с подозрительностью относиться ко всему построению. 1 Стр. 181 книги о Гоголе.
- 95. 95 Осложняется формулировка эдипова комплекса» понятием идентификации. Оказывается, что отношения ребенка к отцу1 не просто враждебные, но амбивалентные: враждебно-любовные. Отец для ребенка не только соперник, но и идеал сил и могущества: ребенок хочет быть таким, как отец, идентифицирует себя с ним. При сексуальном влечении к матери ребенок идентифицирует себя с отцом вполне. В дальнейшей жизни, в случае если человек находит нормальный способ удовлетворения влечения с посторонней женщиной, на которую он переносит черты матери, нет основания для враждебных чувств к отцу: так что отношения к отцу не обязательно враждебны. Кроме того, возможен и другой способ отвода враждебных чувств к отцу даже в том случае, если сексуальное влечение к матери не удовлетворяется нормально с посторонней женщиной; мужчина может идентифицироваться с матерью и удовлетвориться «нарцизмом» (см. выше) либо в гомосексуальных сношениях (с человеком своего пола) стать на место матери. Вот эта многочисленность осложняющих эдипов комплекс» моментов, из которых мы привели далеко не все, заставляет подозрительно относиться к самому построению: в самом деле, при этом условии любые отношения к родителям могут быть истолкованы в духе эдипова комплекса». И все доказательства «Эдипова комплекса» в применении к литературоведению страдают большими натяжками: большинство аргументов для объяснения явлений в духе эдипова комплекса» легко может быть заменено другими. Для иллюстрации возьмем психоаналитическое исследование И. Нейфельда о Достоевском2 по следующим соображениям: а) наиболее яркое и талантливое из исследований такого рода, б) исследование это издано под редакцией самого З. Фрейда и, таким образом, до известной степени «авторизовано»: если со стороны проф. Фрейда не имеется никаких оговорок, то, по-видимому, все положения книги И. Нейфельда им сполна разделяются. Кроме того, для исследования избран писатель, в жизни и творчестве которого сексуальный момент, по-видимому, играл немаловажное значение: и все-таки трудно найти у Достоевского то, что хотят найти психоаналитики. Все противоречия, все загадки жизни и творчества Достоевского И. Нейфельд объясняет, исходя из эдипова комплекса»: «вечный Эдип жил в этом человеке и создал эти произведения; это был человек, никогда не преодолевший своего комплекса Эдипа» (с. 12). Прямых свидетельств со стороны самого Достоевского или со стороны знавших его о комплексе Эдипа, как сексуальном комплексе, не приводится. Мы понимаем, что и трудно найти такого сорта признания. Но те соображения, которые приводятся вместо прямых указаний, только с большими натяжками можно признать за доказательства эдипова комплекса». 1 В рассуждениях мы все время имеем в виду сына; когда ребенок - дочь, необходимо произвести соответствующую перестановку. 2 Нейфельд И.. Достоевский. Психоаналитический очерк под редакцией проф. З. Фрейда. Перевод с немецкого Я. Друскина. Изд. «Петроград».
- 96. 96 Отец писателя, вспыльчивый, ворчливый, педантичный, мелочный, болезненно скупой, производил двоякое впечатление на Федора Михайловича Достоевского: отталкивающее, благодаря упомянутым чертам характера, и притягивающее, благодаря тому, что отец был и первым учителем мальчика (с. 13, 14, 15). Такая амбивалентность совсем не требует сексуального объяснения: мать писателя здесь совершенно ни при чем. Если и были у писателя основания питать к кому-либо ревность, то скорее к старшему брату Михаилу, которого, единственного из всех детей, мать кормила сама (а не кормилица). Для характеристики отношения писателя к матери И. Нейфельдом приводится следующий пример (с. 20): после смерти матери, во время поездки в церковь, Достоевский вдруг потерял способность речи. «Для объяснения может быть приведена хрипота пациентки Фрейда, Доры. Как и Дора, может быть, наш писатель ни с кем не хотел больше говорить после смерти единственного человека, которого он любил и с кем не мог уж говорить». Но факт смерти матери, вообще значительный в жизни человека, и трудно переживается, так что случай с Достоевским, если и объяснять его чисто психологически, все же может быть объяснен без привлечения сексуальных понятий. Трагическая смерть отца Достоевского, убитого крепостными за зверское к ним отношение, произвела сильное впечатление на писателя, и есть предположение, что первый эпилептический припадок случился с писателем, когда он узнал об этой смерти (с. 21). Это, конечно, вполне вероятно. Но вот случай, рассказываемый Григоровичем и комментируемый И. Нейфельдом: «Григорович рассказывает, как они, гуляя раз вместе, случайно встретили похоронную процессию; едва увидев процессию, Достоевский хотел повернуть назад, но сейчас же с ним приключился особенно сильный припадок, от которого он едва оправился. Внезапно появившиеся для сознания бессознательные чувства ненависти и мести против отца были так сильны, что цензура сознания могла защищаться от них только при помощи глубокого обморока» (с. 22). Ход мысли И. Нейфельда в этом комментарии такой: Достоевский, ненавидевший при жизни отца и желавший втайне ему смерти, чувствует себя виновным в его смерти благодаря этому тайному желанию. Чувство виновности ярко оживает при виде похоронной процессии, напоминающей этот комплекс. Но не естественно ли другое объяснение, по которому вид похоронной процессии ассоциативно вызвал в памяти Достоевского те чувства ужаса, которые он испытывал, узнав впервые о трагической гибели отца?
- 97. 97 Ненормальности сексуальной жизни Достоевского в период до 40- летнего1 возраста Нейфельд также объясняет эдиповым комплексом». Инфантильная инцестуозность (остатки детской любви к матери) мешала Достоевскому развить сексуальные чувства к посторонней женщине: на нее переносил Достоевский черты матери. Таким образом, бессознательная зависимость от матери вызвала у Достоевского психическую импотенцию. Но наряду с этим рассказывают, и сам Достоевский это подтверждает, о разврате его в это же время: «Все эти Минночки, Кларочки и Марьяночки так похорошели, что трудно себе представить, но стоят страшно дорого. Тургенев и Белинский как следует выбранили меня за беспорядочную жизнь» (из письма Фед. Мих. к брату, с. 24). Нейфельд видит здесь классический случай несовпадения у инцестуозносвязанных душевной и телесной любви: к матери — душевная, к Минночкам — телесная. Но и в этом случае могут быть приведены объяснения независимо от эдипова комплекса». В самом деле, ведь мы ничего не знаем, каковы физиологически были отношения Достоевского к Минночкам и т.д. — проявлял ли он в этих случаях ту потентность, которой ему не хватало в сношениях с обыкновенными женщинами. Следующие строки из «Записок из подполья», которые Нейфельд считает автобиографическими, заставляют подозревать, что и тут мы вряд ли имеем дело с физически нормальными половыми отношениями: «И вдруг я погружался в темный, подземный гаденький — не разврат, а развратишко»... и т.д. и еще — «вот я и пускался развратничать. Развратничал я уединенно. По ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доводившим в такие минуты до проклятия». Импотенцию Достоевского не правильнее ли объяснить в связи с его эпилепсией? Объяснение психологических мотивов участия Ф.М. Достоевского в кружке петрашевцев особенно насыщено натяжками. Амбивалентное отношение писателя к отцу, видите ли, развернулось в открытую ненависть к нему, и это подтолкнуло на вступление в общество, поставившее целью цареубийство, причем во всем этом психическом процессе царь замещает отца, восстание против царя равносильно восстанию против отца (ср. народное: царь-батюшка, с. 29 и 30). «Покушение на жизнь царя — это отцеубийство, на которое бессознательно толкнули писателя, с одной стороны, инцестуозная связанность, с другой — гнет, испытываемый им от отцовской скупости» (Нейфельд, с. 30). Если последовательно провести эту точку зрения, то неизбежно должно оказаться, что и другие члены кружка Петрашевского были приведены сюда эдиповым комплексом». Это, конечно, легче, чем искать социологических объяснений. Но где у Нейфельда имеются прямые указания на то, что задачей этого кружка и, в частности, Достоевского было цареубийство? Воспоминания, например, А. П. Милюкова совершенно определенно говорят, 1 Дочь Ф.М. — Л. Достоевская говорит, что писатель до 40 л. Не имел половых сношений.
- 98. 98 что уже в это время у Достоевского складывается мировоззрение славянофильского типа. Но, кроме того, разве история буржуазной интеллигенции дает мало примеров того, что ведется борьба с извращениями монархического принципа, причем самый принцип не колеблется. Дальше, если сделать последовательные выводы из положений Фрейда и Нейфельда, то окажется, что все республиканцы вели свою борьбу с монархией под влиянием эдипова комплекса», разрешавшегося крайней формой ненависти к отцу (стремление к убийству отца — свержение царя). Не имеем под рукой материалов об отношении революционеров к своим родителям, но думаем a priori, что, вероятно, можно найти немало случаев идиллических отношений. Но если даже, закрыв глаза, и согласиться с фрейдистским истолкованием источников революционных чувств, то дальше становится коварная проблема — почему же в одни эпохи эдипов комплекс» разрешался революционно, а в другие нет: в другие эпохи большинство вело себя как примерные верноподданные, как примерные дети царя-отца? Антиисторическому фрейдизму не следует браться за исторические проблемы, а таковой, в сущности, является проблема петрашевского кружка. Естественно, что все последующее поведение Достоевского после дела Петрашевского Нейфельд объясняет как следствие раскаяния и искупления за преступное намерение. Легкое перенесение всех ужасов тюрьмы и каторги объясняется чувством облегчения ввиду получения возмездия за вину. «Хотя у него (Достоевского) и остался, — замечает Нейфельд, — на всю жизнь шок от смертного приговора, так театрально инсценированного, тем не менее, кроме отдельных замечаний в “Идиоте”, об этом мало говорится» (с. 39). Может быть, это и так, но ведь как раз то малое, что о смертной казни говорится, — такой силы и значительности, что все принципиальные противники смертной казни приводили в виде решающего аргумента эти известные места из «Идиота». Знаменитая борьба в Достоевском двух начал — религиозности и атеизма, на все лады склонявшаяся Мережковским, конечно, тоже выводится из амбивалентных чувств к отцу, который в системе религиозных взглядов заменен отцом небесным. Если бы религиозная идеология целиком могла быть сведена к сексуальным влечениям, то возможно, что эдипов комплекс» представлялся бы вероятной формой сведения. Но сейчас фрейдистам необходимо посчитаться с историками культуры, в частности с марксистскими социологами, сводящими религиозную идеологию к иным началам. Славянофильство Достоевского, по мнению Нейфельда, тоже результат эдипова комплекса». Любовь к матери-родине замещает инцестуозное чувство к матери. «Страсть, которая к реальной матери была бы наказуема, может без всяких нареканий и укоров совести стать пламенной любовью к родине». Интересно спросить по этому поводу, как же обстояло дело с западниками? Очевидно, у них эдипов комплекс» разрешался иначе. Формула эдипова комплекса» настолько гибка, что легко можно придумать
- 99. 99 что-нибудь подходящее и для них: идентификация с отцом, идентификация с матерью и т.д. Нелюбовь Достоевского к западникам объясняется так же просто: «В их лице он бессознательно ненавидит тех счастливцев, которые преодолели себя, отказались от инцестуозного желания, отделились от матери» (с. 49). Труднее только объяснить, почему определенная группа людей примыкала к славянофильству, другая же к западничеству, то есть почему у одних эдипов комплекс» разрешался так, а у других иначе? Не знаю, какой бы ответ дали представители психоанализа, между тем социология разрешает этот вопрос, исходя из анализа экономических предпосылок славянофильства и западничества. Кроме этих основных натяжек, имеется ряд других, касающихся более второстепенных сторон, но и они показательны. Так, оказывается, что Достоевский унаследовал у отца эрогенность ротовой области (с. 69). Эрогенность ротовой области отца и братьев писателя доказывается тем, что они пили; у самого же писателя эрогенность ротовой области выражалась в том, что он любил сладости, крепкий чай и черный кофе. Признаемся, мы до сих пор думали, что вино, чай и кофе употребляются для удовольствия желудка, а не рта. И почему делать исключения для вина, чая и кофе, тогда и вкус к хорошему бифштексу, например, вероятно, тоже является показателем эрогенности ротовой области. Запоры, на которые часто жаловался Достоевский и которые отразились на его характере, также аналэротического происхождения. На характере Достоевского они отразились таким образом: «С явным удовольствием берет он аванс под свои произведения, но пишет их очень долго и никогда не кончает к условленному времени. Ему как будто тяжело расставаться с своими произведениями, которые уже готовы у него в голове, и этим часто приводит в отчаяние своих издателей» (с. 66). Следует оговориться, что аналэротическое происхождение запора психоанализ объясняет стремлением детей искусственно задерживать кал, чтобы потом получить большее эротическое наслаждение, связанное с выделениями. Отсюда сублимация — удерживание произведений. Но запор Достоевского может быть объяснен и атонией кишок на почве малокровия, и связью с геморроем, который, кажется, не объясняется сексуально-психически. Условия жизни и питания в инженерном училище, а позже в тюрьме и на каторге вполне могли вызвать тяжкие кишечные болезни в организме, и посильнее, чем у Достоевского. Мы не могли следить за всеми натяжками, имеющимися в книге Нейфельда, для этого пришлось бы составить комментарий ко всей книге. Но и то, что приведено здесь, — показательно. Оно убеждает, что такое пользование психоаналитическим методом — опасно. Оно грозит сделать литературные исследования монотонными, легковесно необоснованными; ибо, если наперед быть уверенным, что всякое литературное произведение лишь сублимация эдипова комплекса, то при беспредельной гибкости этого построения, которое легко повернуть и вывернуть как угодно, можно без всяких усилий в любом произведении в два приема обнаружить наличие
- 100. 100 эдипова комплекса. Вместе с тем литературное исследование должно будет прекратиться. Красная новь, 1925, № 7, с. 221–236
- 101. 101 Фрейдизм и искусство А. К. Воронский I. Теория снов-символов Теории психоанализа Фрейда наши ученые и публицисты уделяют за последнее время все больше и больше внимания. Об этом свидетельствует ряд работ Фрейда и его последователей, вновь переведенных на русский язык, оригинальные и компилятивные статьи, помещаемые в журналах, попытки соединить фрейдизм с марксизмом. Особое значение для всех, интересующихся областью искусства, представляет вопрос, в какой мере учение Фрейда может быть использовано и учтено для марксистского литературоведения. Вот почему надо приветствовать статью И. Григорьева «Психоанализ как метод исследования художественной литературы». И. Григорьев, на наш взгляд, совершенно правильно отметил ошибки и крайности, допускаемые фрейдистами при анализе произведений искусства. Верно и то, что сугубыми произвольностями и натяжками грешат наши отечественные последователи Фрейда, доводя его метод в литературоведении подчас до явного абсурда. Беда, однако, в том, что сам Григорьев предлагает такое применение психоанализа в искусстве, которое вызывает очень законные сомнения в его целесообразности. Пытаясь соединить фрейдизм с марксизмом, Григорьев допустил ряд грубейших ошибок, весьма показа- тельных и отнюдь не случайных для фрейдизма. И.Григорьев полагает, что в литературоведении могут быть плодотворно использованы только некоторые стороны психоанализа. Плодотворной гипотезой представляется автору, главным образом, учение Фрейда о динамическом бессознательном. В отличие от психологов старых школ, Фрейд утверждает, что наше бессознательное ведет свою особую активную жизнь, прорываясь в сферу нашего сознания в искаженном виде. Данные нашего сознания являются как бы символами, особыми знаками огромного бессознательного комплекса чувств и стремлений, носящих в основе своей сексуальный характер. Путем сложного психоаналитического метода мы можем истолковать, раскрыть то подлинное, что скрывается за этими символическими знаками. Своеобразные задачи такой расшифровки встают и перед аналитиком художественных произведений. Отвергая сексуальную теорию Фрейда, И.Григорьев находит, что учение о динамическом бессознательном наносит удар наивно-реалистическому пониманию искусства. Художник не стремится бесстрастно познать и изобразить действительность. Действительность, конечно, отражается художником в его произведении, но «центр тяжести» не в этом отражении, а в поведении, в намерениях художника. Намерения же художника, будучи в огромное степени бессознательными, прорываются в особых иероглифах— образах. «Подобно тому, как в символы сна врывается вытесненное
- 102. 102 намерение, так в знаках художественного произведения, но более искусно транспонировано намерение художника». Отсюда: «действительность, поскольку она отражена в сюжете, образах и т.д., только прием для обнаружений намерений художника». Нужно уметь толковать эти сны наяву, расшифровывать их темный и скрытый смысл. К этому сводится задача психоанализа в искусстве. Сказанное вполне согласуется и вытекает из учения Фрейда. И.Гри- горьев только подчеркнул кое-что из того, что обычно у фрейдистов остается иногда затененным. По мнению Фрейда, особенность художника состоит в том, что подсознательные чувства раннего детства, носящие сексуальный характер, позднее перерабатываются им в образы-символы. Художник по- беждает запретные чувства, переводя их на особый язык своей фантазии и воображения. Переживая их идеально, скрывая их в образах, в продуктах своего творчества, он избавляет и себя и других от того, чтобы пережить, испытать их в действительной жизни. Действительность, по Фрейду, в худо- жественных произведениях на самом деле является только приемом, сим- волом. Теория снов-символов логически вытекает из всей системы Фрейда. Тому, кто усомнился бы в этом, мы очень рекомендуем внимательно при- смотреться к ядру учения Фрейда об Я и Оно. Я — сознание, Оно — бессознательная стихия. Я — сознание зрячее, Оно — бессознательное, слепое. «Я-сознание» обуздывает Оно, но’ как? «Я-сознание» является лишь агентом Оно, творящим волю своего господина. Сознание — раб бес- сознательного, сознание предупреждает бессознательное об опасности, сдер- живает его, но целиком от него зависит. Сознание воплощает намерения бессознательного. В учении Фрейда об Я и Оно, таким образом, устанавливается лишь одна зависимость сознания от «Оно- бессознательного». Фрейд упоминает и о внешней среде, но нигде им не усматривается, не анализируется зависимость сознания от этой среды. И не есть ли «Оно-’бессознательное» также и внешний мир. Фрейд обходит этот вопрос, но очень показательно, что бессознательное именуется «Оно». Так называется объект. Раз сознание связано только с Оно, с бессознатель- ным, и не связано со средой, теория снов-символов, где данные сознания символизируют одни лишь намерения бессознательной стихии, напрашивается сама собой. Возвращаясь к Григорьеву, заметим прежде всего, что понимание реа- листического искусства, бесстрастно отражающего действительность, им слишком упрощено. Ни Белинский, ни Чернышевский, ни Плеханов никогда не трактовали реализм в искусстве в качестве пассивного отражения жизни. Они всегда твердо помнили, что художник, мысля образами, чувствует, стра- дает и блаженствует. Художники-реалисты — Толстой, Бальзак, Флобер и даже Золя — тоже не занимались бесстрастным копированием действитель- ности. То, что человек, получая впечатления от внешнего мира, производит отбор и воспринимает далеко не все, это тоже давным-давно известно и установлено прочно экспериментальной психологией до Фрейда, и совсем не нужно быть сторонником Фрейда, чтобы утверждать, что мир действи-
- 103. 103 тельности перерабатывается в восприятиях субъектом. Если тем не менее сторонники реалистического понимания искусства говорили и говорят об из- ображении и отражении действительности в художественных произведениях, об объективности и точности этого отражения, то на это были и есть очень веские основания. И.Григорьев, отправляясь от наличия динамического бессознательного в психике человека, устанавливаемого психоанализом Фрейда, предлагает рассматривать художественные произведения как своеобразные сны- символы, за которыми скрываются намерения художника. Непонятно, почему следует ограничиться в данном случае только областью искусства. Совершенно очевидно, что, принимая такую гипотезу, мы обязаны и научные дисциплины толковать тоже как своеобразные сны-символы. Несмотря на большую субъективность и «интимность», у искусства, как и у науки, один и тот же объект, одна и та же действительность: природа, общество людей, их мысли и чувства. Материалисты-искусствоведы всегда это утверждали. Они считали, что искусство от науки отличается не объектом, а способом обработки этого объекта; особенность искусства они видели в образном, в конкретном восприятии и передаче мира, а не в том, что у искусства этот мир качественно другой, чем у науки. Объект один и тот же. Если данные художественного восприятия в отношении к объекту по- добны снам-символам, то точно такими же снами-символами являются и дан- ные научного восприятия. Во сне мы не только видим, но и рассуждаем, спорим, анализируем. Кто утверждает, что действительность для художника только прием, то же самое должен сказать и про ученого. Но тогда мы должны пойти дальше и сказать: мы не знаем, существует ли внешний мир или он только является нашим представлением. Если он только прием — символ, то он в лучшем случае дает нашим ощущениям и представлениям какие-то толчки, он причиняет нам ощущения и представления, не стоящие, однако, ни в каком реально-познавательном отношении к действительности, существующей вне нас. Легкий стук, шорох во сне воспринимается и претво- ряется в величественную картину грозы с громом, с ливнем, с небом, покры- тыми тучами, и т.д. Но толчком к символам-снам могут быть и внутренние, органические раздражения, смутные желания и чувства. Символ по природе своей лишен внутреннего сродства с предметом, который он символизирует. Символ есть условный, случайный знак. Старый символ искупительного страдания — крест — ни в какой органической связи с самим страданием не находится. Что же у нас получается в итоге? Взгляд на искусство и на науку как на мир своеобразных символов, транспонирующих намерения художника и ученого, с логической неотвра- тимостью ведет либо к агностицизму, либо к субъективному идеализму. В начале своей статьи И. Григорьев замечает, что теория Фрейда, взятая в своем. логическом завершении, «вызывает в памяти величественные метафизические системы Платона, Шопенгауэра и т.д.». К этому следует прибавить: «величественные метафизические системы» вызывает в памяти и
- 104. 104 попытка Григорьева подменить реалистическое понимание искусства теорией снов-символов. Возражая против «пассивного» реализма, И. Григорьев в полном соответствии с Фрейдом выдвинул совершенно идеалистические аргументы. Автор руководствовался явно благими намерениями примирить фрей- дизм с марксизмом в искусствоведении. Но кардинальнейшим вопросом в марксизме является вопрос об отношении мышления к бытию, субъекта к объекту. Не только в философии, не только в науке, но и в искусстве нельзя шагу сделать вперед, не уяснив себе этого вопроса. Григорьев дал ответ не по Марксу, а по Фрейду. Люди, стоящие на материалистической точке зрения Маркса, полагают, что наши ощущения и. представления имеют не только субъективное значение, но и объективное, что они отражают действительность и в науке и в искусстве и не как иероглифы и символы, а как образы мира. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что эти отражения являются точной, безусловной копией действительности, что наши образы мира абсолютно верно воспроизводят этот мир. Объект никогда не равен субъекту. Окружающий нас мир прежде всего бесконечно более богат, разнообразен, чем его отражения в нашей психике. Мы знаем о нем до сих пор все же чрезвычайно мало. Но эти отражения не являются, и символами, то есть условными, произвольными знаками, за которыми скрыты только намерения. Отражения относительно точны, верны и объективны. Тот, кто придерживается этого взгляда, и в произведениях искусства будет искать точности и верности и соответствия действительности, ни на миг не упуская, конечно, и намерений. К слову скажем, что определение искусства, которое дают некоторые напостовцы — искусство есть средство эмоционального заражения, —очень легко уживается с идеалистическими и агностическими теориями. Такое определение недостаточно, ибо игнорирует и не отвечает на основной вопрос об отношении мышления к бытию. Могут сказать, что истины искусства в отличие от научных истин ис- ключительно субъективны. Такого взгляда придерживается, например, Ле- Дантек в своей интересной книге «Познание и сознание». Он утверждает это на том основании, что произведения искусства толкуются до сих пор вкривь и вкось, что об одной и той же вещи существуют сотни мнений, что есть ровно столько художественных истин, сколько имеется художников. «Вне науки слово «истина» не имеет никакого значения». Это утверждение оши- бочно. Согласия нет и среди ученых. Общепризнанность научных истин не только оспаривается сплошь и рядом учеными, принадлежащими к разным направлениям и школам, но не убедительна для миллионов людей. Искусство более субъективно, наука более безлична — это так, но тут различие условно. Субъективизм в науке порой бывает более силен, чем в искусстве, особенно там, где явно затронуты классовые интересы. О теории прибавочной стои- мости Маркса спорят больше, чем о «Кавказском ‚пленнике» и «Холстомере» Л. Н. Толстого. Теория Дарвина до сих пор встречает сонмы ожесточенных противников. Романы Бальзака, Флобера, Толстого, произведения Гоголя,
- 105. 105 Чехова дают несомненные, пусть не полные, художественные истины. Словом, понятие истина имеет значение не только в науке, но и в искусстве. Намерения и там и здесь неустанно врываются и дают знать о себе. Если слово «истина» не имело бы значения в художестве, то мы должны были бы сказать, что художник в противоположность ученому вращается исключительно в субъективном мире, что он солипсист. Тогда он создавал бы вещи, понятные только ему одному. Но это не так: ученый обобщает общественный опыт людей в понятиях, художник обобщает тоже общественный опыт, но в образах. Искусство есть явление социальное; тот же, кто утверждает, что истины искусства исключительно субъективны, тем самым отрицает и общественное происхождение искусства и общественную значимость художественных произведений. Он смотрит на произведение как на продукт узко-индивидуального творчества, а на художника, как на существо, лишенное социальных связей. Такое воззрение чуждо марксизму, но оно, как мы увидим ниже, лежит в основе методики искусствоведов- фрейдистов. Субъективизм в решении проблемы об отношении мышления к бытию прочно связан у них с субъективным методом в толковании произведений искусства. II. Намерения и действительность Данные нашего сознания, утверждают фрейдисты, подобны снам- символам. За ними скрываются намерения. Действительность — только прием. Несовместимость этой явно идеалистической теории с марксизмом мы уже постарались показать. Как, однако, обстоит дело с намерениями в их отношении к действи- тельности? Допустим, что наши суждения и образы являются снами-симво- лами по отношению к нашим намерениям; вытекает ли отсюда, что действи- тельность есть прием? Возьмем наиболее наглядный и простой пример с при- менением психоанализа Фрейда. Л. Джемсон, тоже пытающийся соединить фрейдизм с марксизмом, в своих «Очерках психологии» со слов психолога Бернгарта Гарта рассказывает о таком случае. Учитель одной воскресной школы из религиозного человека сделался страстным атеистом: «Он настаивал, что пришел к этой точке зрения в результате продолжительного и добросовестного изучения предмета и, действительно, он приобрел поистине широкие познания в области религиозной апологетики... Тем не менее имевший впоследствии место психоанализ открыл реальный комплекс, обусловивший его атеизм: девушка, за которой он ухаживал, вышла замуж за одного из наиболее восторженных в религиозном отношении его товарищей учителей по воскресной школе. Причинный комплекс — злоба на своего счастливого соперника — выявился в отказе от тех верований, которые раньше были причиной такой близости между товарищами. Аргументы, изучение, цитаты были только результатом рационализации» (Л. Джемсон, «Очерки психологии», с. 4–5).
- 106. 106 Вот типичный и наиболее простой случай применения психоанализа. Установлен примат намерения и служебная подчиненная роль познаватель- ных суждений. Намерение — чувство злобы — прорвалось в сферу сознания не прямо, а искаженно, в символах. Символами являются аргументы, цитаты, изучение. За всем’ тем вправе ли мы спросить о познавательной ценности этих шифров и символов, или мы скажем вслед за фрейдистами и т. Григорьевым, что можно, разумеется, поставить вопрос и об отражении действительности, в данном примере о логической убедительности аргументов и цитат, но что это не главное? Вопрос о познавательной ценности содержаний нашего сознания не стоял бы ни в науке, ни в искусстве лишь в том случае, если бы мы признали, что кроме наших намерений и нашего поведения ничего в мире не существует, и наши ощущения, представления и мысли служат выражением одних этих намерений. Для Фрейда и его последователей, пришедших к ве- личественным метафизическим системам Платона и Шопенгауэра, так оно и есть. Мы же, марксисты, стоим на другом. Мы полагаем, как было указано нами, что кроме наших намерений существует независимый от нас мир, что он дан был задолго до появления наших намерений. А раз кроме наших на- мерений существует независимый от нас мир, то ясно, что мы имеем полное основание заинтересоваться, в каких отношениях наше мышление, наши образы находятся не только к намерениям, но и к этой действительности. Допустим в примере с учителем, что психоанализ точно вскрыл настоящие побуждения учителя, однако это не снимает вопроса, насколько логически убедительны аргументы и цитаты учителя в пользу атеизма. И если бы учи- тель обладал художественным даром и свои атеистические воззрения попытался бы показать в образах, то мы в равной степени имели бы полное основание полюбопытствовать — верно и убедительно ли отражена в образах система атеистического мировоззрения, то есть мы заинтересовались бы вопросом об отражении действительности в произведении. Все дело в том, что у учителя не одно, а два намерения: одно скрытое — злоба к противнику, а другое открытое, связанное с первым стремлением нанести вред противнику силой логической аргументации в пользу атеизма. Скажут: в примере с учителем аргументы, цитаты являются, несомненно, теми самыми символическими знаками, о которых говорят фрейдисты и за ними т. Григорьев. Совершенно справедливо. Они являются символами по отношению к намерению и к поведению, но они отнюдь не служат символами по отношению к действительности. Григорьев вслед за фрейдистами спутал эти два отношения. Он начал с утверждения, что в художественных образах транспонируется поведение художника, а отсюда заключил, что действительность в художественном произведении вообще только прием, символ, иероглиф и что заниматься вопросом об отражении ее в произведении неинтересно и ненужно. Заключение совершенно незаконное, ничем не оправданное и не марксистское. Нужно отметить, что, делая такой вывод, И. Григорьев только вторит школе Фрейда. Фрейдисты при анализе художественных произведений обычно ограничиваются выяснением, как в
- 107. 107 символах-образах скрываются бессознательные импульсы художника. Вопроса об отражении действительности они не исследуют и не решают. С их точки зрения это вполне последовательно. Тот, кто придерживается идеалистической системы взглядов, может ограничиться выяснением отражений в нашем сознании одних намерений, ибо реально существуют одни лишь намерения, мир есть их символ, объекта, независимого от нас, не существует, или нам ничего о нем не ведомо. Отправляясь от идеалистического построения Фрейда, И. Григорьев опять-таки в полном согласии со школой Фрейда неправильно и неверно разрешил вопрос об отношении поведения и импульсов человека к познава- тельному процессу. Едва ли самый «пассивный» реалист решится утверждать, что скрытые и открытые чувственные стимулы не имеют гигантского значения в творчестве художника и ученого. Художник мыслит и чувствует образами, потому что «намеревается». Желание — отец всякого познания, в том числе и художественного. Томимый желаниями, человек ставит себе цели и соответственным образом действует. Желания, намерения входят таким образом составною частью в практику общественного человека; значение же практики в познавательном процессе достойным образом оценено марксизмом. «Успех наших действий, — писал Энгельс, — доказывает согласие наших восприятий с предметной природой воспринимаемых вещей». Второй тезис Маркса о Фейербахе гласит: «Вопрос о том, способно ли человеческое мышление познать предметы в том виде, как они существуют в действительности, вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать человек истину своего мышления, то есть доказать, что оно имеет действительную силу и не останавливается по сю сторону явлений. Спор же о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос». Желания и побуждения, входящие составной частью в практику, про- веряют достоверность, силу и объективность нашего мышления. Вопрос о действительности мышления не только не снимается практической деятель- ностью человека, а, наоборот, эта деятельность является единственным и универсальным критерием ценности всякого познания, научного и художественного. У фрейдистов же получается «шиворот на выворот»: так как наши ощущения, мысли, представления, образы обусловливаются поведением человека, то действительность есть только условный знак, прием, важны намерения, поведение, а не отражения в сознании действительности. Поведение человека определяет систему его воззрений, это альфа и омега марксизма; весь вопрос, однако, в том, каково это поведение, помогает ли оно человеку познавать мир или препятствует такому постижению? Чтобы ответить на это, надо знать, каковы именно побуждения, каковы практика и поведение человека в обществе. Предположим, что художник, имя рек, до последнего предела ненавидит русскую революцию и республику советов. Не брезгуя никакими реакционными силами, он борется с ненавистной ему «совдепией». Служа верой и правдой такой практике и
- 108. 108 под непосредственным воздействием ее, он в своих романах, повестях, рассказах, статьях изображает русскую революцию и ее активных участников, скажем, так, как это делают за рубежом Шмелевы, Чириковы, Гиппиусы и т.д. Влияние поведения художника на его творение налицо. Предположим, далее, в угоду фрейдистам, что в анализе этого поведения мы пошли дальше и по пути школы Фрейда и в результате обнаружили в основе реакционных поползновений и домогательств наличие скрытых атавистических наклонностей — садизм, извращенную сексуальность и пр. Все это проецировано в соответствующие образы, типы, картины. Поставив вопрос, в какой степени верно отражена художником русская революция в этих типах, описаниях, мы приходим к заключению, что действительность совершенно искажена. Намерения, поведение художника не совпали с объективным ходом развития общественной жизни, поэтому он дал искаженную действительность. Наоборот, намерения и поведение художника, стоящего за пролетарскую революцию, помогли отразить более или менее правильно революционную действительность в меру его сил и разумения, ибо совпали с объективным ходом истории. Задача критика и в том и в другом случае сводится к выяснению намерений художника, но это одна сторона дела; другая, не менее важная, заключается в чем, чтобы обнаружить, насколько эти намерения помогли или оказали противодействие воспроизведению действительности. Совершеннейшая схоластика решать, что важней при анализе произведения — обнаружение скрытых или открытых побуждений художника или выяснение, насколько верно и как отражена в произведении жизнь. И то и другое одинаково важно, и то и другое взаимно связано: поведение определяет степень достоверности отражения, в отражениях обнаруживается поведение. Поведение выясняет удельный социальный вес художника и его произведения, вскрывая их классовую природу, вопрос же об отражении действительности в произведении ставится потому, что существует мышление, и существует бытие, субъект и объект и что разрешение антиномии между бытием и мышлением существенно важно не только в философии и в отдельных научных дисциплинах, но и в искусстве. В учении Фрейда о взаимоотношениях Я и Оно устанавливается лишь одна зависимость «Я-сознания» от бессознательности стихии, обусло- вленность сознания внешним миром совершенно игнорируется. Теперь мы с уверенностью можем сказать, чем объясняется такое игнорирование. Тут дело совсем не в методологической установке психолога, а в самом существе учения Фрейда. Положение, что сознание зависит не только от бессознательного, но прежде всего от бытия, от внешнего мира, подтачивает в корне основу фрейдовской теории. Раз мышление обусловливается бытием, то нельзя свести работу сознания к исключительному выполнению директив бессознательной стихии, пусть эти директивы и подвергаются цензуре сознания; очевидно, функция сознания гораздо шире. Сознание дано на’« не только для того, чтобы «символизировать» наши бессознательные намерения, но и для того, чтобы
- 109. 109 мы могли познавать объективную реальность. «Символизм» намерений — здесь побочный продукт. Тот же, кто мыслит по Фрейду, упирается неизбежно в мысль, что истина есть только выражение наших намерений, то есть в субъективизм. Субъективизм при решении проблемы, в каком отношении намерения и поведение художника находятся к художественной истине, просачивается иногда в такую среду, где ему, казалось бы, совсем не должно быть места. Так, наши пролеткультовцы, главным образом, те из них, кто пытается соединить пролетарскую культуру с футуризмом, не устают противополагать практику, поведение, «целеустроительность» «пассеизму», подразумевая на деле под «пассеизмом» способность нашего научного и художественного сознания действительно постигать и отражать бытие. На намерениях свихиваются и многие из тов. напостовцев. У них клас- совые намерения сплошь и рядом заслоняют кардинальнейший вопрос и в ис- кусстве об отношении мышления к бытию: раз классовый, не может быть никакой речи об объективности содержаний нашего сознания; при чем объективность они понимают в смысле бесстрастности и незаинтересованности ученого и художника, а не в смысле соответствия их субъективных восприятий объекту. Поэтому они неизменно приходят в неистовство, как только заходит речь, насколько точно и верно та или иная действительность отражена в художественном произведении, считая такие толки и рассуждения посягательством на диктатуру пролетариата; впрочем, это на практике им не мешает кричать о преступных искажениях революционной действительности, допускаемых злостными попутчиками. III. Бессознательное В одном отношении И.Григорьев, по-видимому, прав: учение Фрейда о динамическом подсознательном, не целиком, а частью, принадлежит к пло- дотворным гипотезам в области индивидуальной психологии. Фрейд разру- шает поверхностно-рационалистический взгляд на человеческую психику, подточенный, однако, основательно и до него. Несомненно, что за порогом нашего сознания лежит огромная сфера подсознательного, что это подсозна- тельное совсем не похоже на склад или на кладовую, где до поры до времени наши желания, чувства, намерения пребывают в состоянии бездеятельного покоя или сна. Вытесненные по тем или иным причинам на задворки нашего сознания, они ведут очень активную жизнь и, достигая известной силы, про- рываются неожиданно в наше сознательное «я» иногда в кривом, в иска- женном, в обманном виде. Наивно полагать, что наше сознание всегда и во всем управляет собой и подчиняет себе наши желания и мысли. Сплошь и рядом оно само является приказчиком, выполняющим волю своего господина. Учение Фрейда, таким образом, подтверждает в искусствоведении, что творческий акт художника нельзя сводить к одним лишь рационалистиче-
- 110. 110 ским приемам, к технике, к конструкции, к энергичной словообработке. Интуиция и инстинкт играют здесь решающую роль. Динамическое бессознательное, вводимое психоанализом Фрейда, раскрывает более точно содержание понятия об интуиции. Интуиция—это наше активно действующее бессознательное. Интуитивные истины достоверны, непреложны, не требуют логической проверки и часто не могут быть проверены логическим путем именно потому, что складываются предварительно в подсознательной области нашей жизни и обнаруживаются затем сразу, вдруг, неожиданно в сознании, как бы независимо от нашего «я», без предварительной его работы. Отсюда ощущение их внешности, посторонности. Нам кажется таинственным появление интуитивных истин, они «осеняют» нас, посещают нас как нежданно негаданные гости. Эту «таинственность» объясняет психоанализ. Собственно бессознательное никогда не отрицалось марксистами ни в психологии, ни тем более в искусстве. Бессознательные, инстинктивные, интуитивные намерения художника всегда учитывались марксистами-искусствоведами. Психоанализ Фрейда в известном смысле вскрывает механику индивидуального подсозна- тельного, как оно прорывается наружу. Но и в этой области, как мы увидим далее, надо сделать ряд очень важных оговорок. Затем, динамическое бессознательное несомненно подчеркивает зна- чение чувственных и иных импульсов в художественной и научной деятель- ности. Взгляд на художника и на ученого, будто они приходят к данному комплексу образов или научных понятий лишь потому, что убеждаются в логической или эстетической их ценности, сильно ограничивается психоанализом Фрейда. «Убеждается» и художник и ученый прежде всего потому, что желает себя убедить. Желания, намерения заставляют выбирать такие доводы, подбирать такие образы, которые наиболее соответствуют этим желаниям. Художнику и ученому только кажется, что он бесстрастно «под углом вечности» руководствуется чисто научными и чисто’ художественными заданиями. Такая рационализация чаще всего совершается бессознательно, как бессознательными и скрытыми остаются намерения ху- дожника и ученого. Отсюда задача искусствоведа — разоблачать этот иллю- зорный рационализм, подставлять под него скрытые намерения. Принци- пиально нового тут для марксизма ничего нет: марксизм в искусстве издавна пользовался этим методом. Пожалуй, психоанализ Фрейда поучителен в том отношении, что показывает, с какими трудностями сопряжена эта работа «снятия покровов» с помыслов ученого и художника, тщательно иногда за- вуалированных. Сложными, иногда обходными путями, надлежит здесь пользоваться, требуется очень тонкая и кропотливая работа. Фрейдизм обращает наше внимание и заставляет ценить детали тогда, когда прямой анализ наталкивается на ряд препятствий. В этих случаях значительную помощь может оказать отдельная сцена, картина, фраза, образ, обмолвка. Часто эти мелочи бывают характерней костяка самого произведения. У нас же сплошь и рядом орудуют дубьем и топором там, где нужен ланцет. Храбрость обнаруживают изрядную, но метод Маркса от этой храбрости
- 111. 111 терпит явный ущерб. Идеологический арсенал, откуда выбирается «оружие критики», довольно убогий: «обывательщина», «мелкобуржуазный», «помещичий» — и дело в шляпе; при чем и эти-то понятия употребляются больше не в аналитическом смысле, а в ругательном и изобличительном. За пределами критики обычно остается самое важное—индивидуальное лицо писателя. «Храбрость» без достаточных оснований ведет к подозрительной безапелляционности суждений. Все ясно, все решено, все доказано и исчерпано. Нет и намека на ту осторожность и даже нерешительность, которые звучат, например, у самого Маркса в известном его суждении о произведениях греческого искусства. Безапелляционность в свою очередь ведет к быстрым отлучениям «еретиков». Известно, что у нас сейчас отлучают и художников и критиков решительно, неукоснительно и ежечасно. Впрочем, недреманное око напостовцев может усмотреть полемический «уклон» с нашей стороны. Теория динамического бессознательного учит, дальше, с очень боль- шой осмотрительностью относиться к рационалистическим толкованиям мотивов и поступков героев и персонажей анализируемого произведения. Критики, в том числе и марксисты, иногда требуют от художника, чтобы он ясно, внятно и разумно обосновывал действия и поступки своих героев. Когда же не находят такого рационального обоснования, начинают утверждать, что писатель произвольно заставил действовать своего героя. Но поведение героя, его высказывания, как и всякого человека, сплошь и рядом коренятся в бессознательном, они часто иррациональны в том смысле, что не поддаются и не могут быть объяснены сознательными мотивами. Из этого, конечно, не следует, что художник вправе приписывать своему герою какое угодно поведение по своему произволу. Из этого следует только одно: поведение данного героя может быть лишенным обычного, нормального, узко-рационального смысла, но оно должно органически вытекать из всей его природы. Если это поведение кажется не мотивированным, внезапным и слу- чайным с точки зрения содержания сознания этого героя, то оно должно’ быть мотивировано всем комплексом его скрытых и открытых чувств и намерений. Так как исследование динамики и механики бессознательного подчас представляет непреоборимые трудности, то от критика, как и от читателя, требуется в этих случаях то, что называется чутьем. Только чутьем угадывается и оценивается сплошь и рядом, насколько внутренне ‚мотивированы и согласны с природой героя те или иные его поступки. Особые трудности встают при анализе произведений писателя, у которого иррациональное начало в героях действует наиболее активно. Таковы, например, Достоевский, Шекспир. Из этого же вытекает, что передать другому эстетическую оценку, основанную на чутье, или аналитически отнестись к ней, подчас дело совсем не легкое. Такая передача возможна только при условии созвучности. Этим, пожалуй, и ограничивается то положительное, что содержится в учении Фрейда о бессознательном для марксистского искусствоведения. Большая часть того, что есть ценного в этом учении, в сущности, давно уже
- 112. 112 учтена марксизмом. Но это положительное нисколько не уравновешивается заведомо отрицательными и неприемлемыми для марксизма элементами в этом учении. Марксизм никогда не отрицал динамики бессознательного, но, пользуясь широко этим понятием, он вкладывал в него иное, чем у Фрейда, содержание. Мы тоже полагаем, в согласии с Григорьевым, что дело психиатров и психопатологов определить, в какой мере ими может быть для их специальных исследований использовано утверждение Фрейда, что все наши импульсы сводятся к сексуальному влечению. Возможно, что при психоанализе явлений патологического характера положение Фрейда способно дать ценные результаты. Фрейд в области психопатологии собрал богатый и интересный материал, тщательно его проработал, и только дальнейшая опытная проверка может установить, насколько и в каком объеме в психопатологии будет использовано это положение Фрейда. Едва ли, однако, можно сомневаться, что в нормальной жизни и деятельности людей помимо сексуального влечения имеются и другие не менее сильные стимулы: голод, социальные импульсы и т.д. Тем более это надо сказать про так называемый эдипов комплекс1 , к которому обычно фрейдисты пытаются свести основное содержание художественных произведений. Марксисты- искусствоведы установили, что на заре человеческой культуры искусство непосредственно зависело от того, как человек трудился и как он добывал себе пищу. Между тем, по Фрейду первоначальные истоки искусства мы должны искать в преодолении эдипова комплекса, который все же в сублимированном виде остается главной темой художественных произведений и по сию пору. Это совершенно произвольное допущение, и те явные несуразности, которыми пестрят исследования фрейдистов в искусстве, только подтверждают односторонность их ‚теории. Бессознательное марксисты никогда не сводили к одним сексуальным влечениям, еще более им чуждо учение об эдиповом комплексе, носящее на себе очевидные психопатологические черты. Бессознательное по Фрейду содержит в себе низшие, атавистические влечения человека. «Запрещенные» ходом культурной жизни человечества, вытесненные в глубь нашего суще- ства, они дают о себе знать, прорываясь при благоприятных случаях в наше сознание в сублимированном, искаженном виде. Марксистская социология и это утверждение считает односторонним и, следовательно, неверным. Наши подсознательные влечения имеют более разнообразный и богатый характер. В подсознательную сферу переводятся и те чувства и желания, которые при- обретаются, накапливаются и совершенствуются в процессе нашего общественного развития. Таковы, например, социальные инстинкты. По мере того, как они приобретают характер привычки, механизируются, они переводятся из сферы сознания в сферу подсознательного. Самопожертвование, храбрость, солидарность, тяготение к обществу и т.д. носят сплошь и рядом такой же подсознательный характер, как и скрытые 1 Эдипов комплекс — сексуальное чувство к матери и враждебное к отцу.
- 113. 113 сексуальные атавистические побуждения, выдвигаемые фрейдистами. По- видимому, не только подсознательное ведет войну с сознанием, но в самом подсознательном ведется. неустанная борьба между различными влечениями. Ход и исход этой борьбы определяется окружающей средой, более поздние и прогрессивные подсознательные влечения при неблагоприятных условиях могут быть задавлены и уступают место атавистическим побуждениям. Так, кровавая война, начавшаяся с 1914г., несомненно, пробудила садизм, разрушительные инстинкты и пр. Человечество идет «вперед и выше» не прямыми, а сложными окольными путями, оступаясь, отступая, пользуясь обходным движением. Господствующий класс в эпоху своего расцвета развивает в себе наиболее положительные инстинкты; стремясь под уклон, он в интересах самозащиты бывает вынужден обращаться и культивировать в себе чувства, осужденные, казалось бы, историей. Процесс рационализации, диссоциации, сублимации наших бессозна- тельных намерений подлежит сложной и трудной расшифровке и в науке и в искусстве. Но едва ли будет правильным воззрение, к которому обычно склоняются фрейдисты, что вся работа нашего сознания, в сущности, сводится к иллюзорному самоуспокоению и самообману: под бес- сознательные намерения наше сознание подставляет логические понятия. суждения, или эстетические образы. Оно обманывает нас. В отношении к художнику фрейдизм это устанавливает в довольно категорической форме, утверждая, что вся творческая работа его сводится к безболезненному из- живанию в образах первоначального эдипова комплекса1 . Между тем, наши желания, интересы, намерения коренятся не только в области безликого бессознательного. Значительная их часть осознается непосредственно. Чело- век не является исключительно рациональным животным, но он не принадле- жит и к животным совсем иррациональным. Напомним замечание Маркса, что архитектор отличается от пчелы тем, что у него заранее есть план построения. Человек ставит себе цели, осознает свои намерения и стремится их удовлетворить. Практика и опыт ежедневно и ежечасно убеждают нас в том, что мы достигаем или не достигаем того, чего желаем и к чему созна- тельно стремимся. Между бессознательными и сознательными намерениями нет той пропасти, которую пытается вырыть школа Фрейда. Рабочий бессо- знательно может стремиться к уничтожению власти капитала, но, соединив- шись с другими и осознав себя как класс, он ставит те же самые цели, но уже сознательно. Нет поэтому необходимости всегда и всюду зашифровывать свои намерения. Работа сознания часто сводится к расшифровке наших на- мерений, по крайней мере тех, которые, по мнению человека или класса, заслуживают открытого и «законного» удовлетворения. Зашифровка или расшифровка зависит в конечном итоге от выгоды и пользы. Пролетариату сейчас выгодно расшифровать свои самые «грубые» намерения, буржуазии выгодно, напротив, зашифровать свои самые тонкие вожделения. Все зависит 1 Художник, конечно, изживает идеально реальные импульсы, но они не сводятся к эдипову комплексу.
- 114. 114 от времени и места. Рационализация и сублимация намерений происходит только при известных условиях, когда группе людей, классу нужно, выгодно и полезно скрывать свои намерения, или когда к этому ведет своеобразие общественных отношений. Сводить всю работу индивидуального и общественного сознания к самообману нет никаких оснований. * * Сделав это значительное ограничение, следует еще раз подчеркнуть, что марксизм всегда признавал наличие индивидуально и общественно бессознательных намерений, тщательно загримированных и законспирированных. «Как в частной жизни мы различаем то, что думает и говорит о себе человек, и то, что он действительно представляет и думает, так — и даже еще в большей степени—в исторической борьбе должны мы отличать фразы и продукты воображения партий от их действительного организма и их действительных интересов, их представления от их реального содержания» (Карл Маркс, «18 брюмера»). О таком самообмане людей говорится в том же «18 брюмере». В эпохи революционных кризисов люди начинают усиленно воскрешать старых героев, старые даты, пароли, костюмы и т.д. «Прежние революции нуждались в великих исторических воспоминаниях, чтобы обмануть себя относительно своего истинного содержания». В формах общественного сознания, в политических, правовых, религиозных, эстетических нормах, суждениях, воззрениях выражаются интересы людей, но они бессознательно зашифрованы, скрыты. Поверхностному взгляду их не видно. Сами люди, придерживающиеся тех или иных взглядов, глубоко убеждены, что их воззрения чисты от реальных импульсов и намерений. Поэтому задача социолога, историка, публициста, критика сводится к «снятию покровов», к расшифровке представлений и мнений, к переводу их на более реальный язык классовых домогательств, страстей, побуждений. Этим методом посильно до сих пор пользовались и пользуются марксисты, анализируя различные стороны общественного сознания. Показательные примеры, как вскрываются марксистами реальные нужды и поведение человека в искусстве, можно найти не в малом количестве хотя бы у Г.В.Плеханова. Так, он утверждал, что красивым и прекрасным общественному человеку кажется полезное; но эта польза обычно зашифрована. Человеку кажется, что его понятия о прекрасном носят самоценный характер и далеки от всякой пользы. Многие художники, проповедуя теорию искусства для искусства, думают, что они оберегают его от низменного утилитаризма и хотят освободить искусство от чужеродных и несвойственных ему элементов. Плеханов рассуждал об этом иначе: «Склонность художников, живо интересующихся художественным творче- ством, к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой («Искусство и общественная жизнь»). Выходит, что эта склонность обнаруживает совсем не то «поведение» художника, которое существует в его представлении. Плеханов,
- 115. 115 далее, превосходно показал, что смена школ и направлений в искусстве, непонятная, необоснованная и странная на первый взгляд, становится понятной и обоснованной, если принять во внимание, что в общественной борьбе классов люди стремятся поступать, думать и чувствовать «как раз наоборот» тому, что думает и чувствует класс-антипод. Создатели французской слезливой комедии XVIII века, проповедуя ее взамен классической трагедии, выражали, в сущности, свою неприязнь против ее манерности, против изображения на сцене императоров и королей. А это, в свою очередь, случилось потому, что в сердцах идеологов третьего сословия «зародилась ненависть одновременно с жаждой справедливости». Слезливая комедия явилась своеобразным «символом» поведения этих идеологов. Чтобы не уходить в глубь веков, напомним, что наши контрреволюционеры бешено ненавидят теперь красный цвет не потому, что он им отвратен по своей природе, а лишь потому, что большевики сделали этот цвет символом своих стремлений. Подобно воскресному учителю, о котором упоминает Джемсон, они из ненависти к большевизму усиленно подбирают «аргументы и цитаты», в другое время и при других обстоятельствах, возможно, совсем не показавшиеся бы им убедительными. Правда, в отличие от учителя в этом подборе они, являясь мракобесами, не обнаруживают ни широких познаний, ни виртуозности. Реальный комплекс их намерений, несмотря на рационализацию, тут очевиден и легко вскрывается. Итак, марксизм всегда занимался расшифровкой динамически- бессознательных общественных намерений, и психоанализ Фрейда ничего принципиально нового в методологию марксизма не вносит. Но, сравнивая фрейдизм с методом расшифровки, которым пользуются марксисты, особливо в искусстве, нужно сказать, что есть ряд соображений, говорящих не в пользу учения Фрейда. Было уже отмечено, что, вскрывая поведение человека «в символах» науки и искусства, марксизм никогда не упускал из внимания коренного вопроса об отношении мышления к бытию, меж тем фрейдисты, занимавшиеся анализом художественных произведений, считают этот вопрос не существенным и неуместным. Обычно они ограничиваются констатацией субъективных намерений писателя, сводя их к весьма спорному эдипову комплексу. Понятие бессознательного у них настолько гиперболизировано, что человек, согласно этому воззрению, является иррациональным животным; работа сознания, в особенности у художника, сводится исключительно к обману себя и других. Непонятно, как возможна практика, приводящая человека к господству над природой и т.д. Есть еще одно не менее важное соображение, на котором следует остановиться сейчас несколько обстоятельней. Марксисты, анализируя различные стороны общественного сознания, в том числе и произведения искусства, неизменно исходили из положения, что они имеют дело не с отдельным, изолированным индивидом, а с обще- ственным человеком. Последователи Маркса всегда твердо памятовали, что политические, правовые, религиозные, эстетические воззрения складывались под определяющим влиянием биологических, климатических,
- 116. 116 географических и общественно-исторических условий. Но первые условия являются относительно устойчивыми и неизменными, общественно- исторические условия, наоборот, изменяются несравненно быстрей. К тому же общественная среда является наиболее близкой и непосредственной для общественного человека. Биологические и климатические условия поэтому влияют на человеке через посредство искусственной общественной среды. Исходя из этих положений. ученики Маркса полагают, что главную причину изменений, эволюции нравов, убеждений, чувств следует искать в общественно-исторической среде. Поскольку психоанализ Фрейда ограничивается исследованием психологии и даже психопатологии отдельных людей, рассматривая их с естественнонаучной точки зрения, ему, как говорится, и книги в руки. Но фрейдисты, к сожалению, не ограничиваются этим исследованием и пытаются анализировать общественные намерения, чувства, взгляды, представления, образы. Из психологии они переходят в социологию, оставаясь, однако, на почве изучения изолированного от общества человека. Поступая так, фрейдисты тащат нас назад в лучшем случае к так называемой абстрактной естественнонаучной точке зрения, благотворной в биологии, в физиологии и в психологии, но справедливо осужденной еще Марксом для социологии. Это обычная ошибка ученых, в которую они впадают, переходя из области естествознания в область обществоведения. Обычно применение абстрактного естественнонаучного метода к явлениям общественного по- рядка приводит к тощим и отвлеченным, малосодержательным общим поло- жениям. То же самое систематически случается и с фрейдистами, когда они расширяют рамки своего исследования и берутся за анализ таких форм обще- ственного сознания, как искусство. Тов. Григорьев наглядно доказал в своей статье, что работы фрейдистов в области искусства дают «наиболее отри- цательные и монотонные результаты». Но такие результаты, он полагает, получаются лишь потому, что фрейдисты слишком односторонне пользуются сексуальной теорией при истолковании художественных произведений. Это так. Но если фрейдисты, помимо сексуальных стимулов, признали бы и другие —голод, социальные инстинкты и пр., положение резко все же не изменилось бы: результаты и здесь оказались бы монотонными, ибо вместо психоанализа общественного человека они берут изолированного психического индивида. Из их работ никогда нельзя узнать, какая общественная среда, какие нравы, какой быт, какие общественные взгляды и каким образом повлияли на писателя и на его произведение. Как будто общественной среды совсем’ не существует в природе. Сравните монографию Плеханова об Ибсене с психоанализом Фрейда, примененным им к драме Ибсена «Росмерсгольм»1 . Не в пример своим русским единомышленникам Фрейд мастерски воспользо- вался методом психоанализа. Согласимся с ним, что Реббека терпит крушение в конечном счете благодаря инцесту, то есть сожительству с 1 См. «Психоанализ и учение о характере». З. Фрейд: «Некоторые типы из психоаналитической практики».
- 117. 117 отцом. Однако основная художественная идея энаменитого драматурга пролегает не здесь: ока содержится в трагическом столкновении сурового миросозерцания Росмерсгольма, который покорил себе Реббеку, с непосредственной, не организованной, активной, но аморальной силой жизни. Это — центральная идея лучших произведение Г. Ибсена — древо жизни, древо креста, пропасть между ними и третье — смутное царство в грядущем, где Ибсену чудилось органическое слияние древа жизни с древом креста: силы непосредственной жизни с требованием долга. Г. В. Плеханов не дал исчерпывающего анализа творчества Ибсена, в монографии есть значительные пробелы, но его анализ очень убедительно отвечает на вопрос, почему Ибсен не мог разрешить коллизии между долгом Бранда ‚и аморфной жизненной сочностью Пэр Гюнта. Плеханов показал в своей статье, что мораль Ибсена отвлеченна, лишена конкретного содержания. Благодаря этому обстоятельству Ибсен заходил в ряд безвыходных тупиков. «Бранд не понимает, что вечное движение («несотворенный дух») проявляется только в создании временного, то есть нового: новых вещей, новых состояний и отношений между вещами». Не понимал этого и Ибсен. Почему это случилось с Ибсеном? Плеханов в результате анализа отвечал: «Тут виновата среда, окружавшая Ибсена. Эта среда (Норвегия, где родился и вырос Ибсен. — А. В.) была достаточно определенна для того, чтобы вызвать в Ибсене отрицательное отношение к ней, но она была недостаточно определенна, — потому что слишком неразвита, — для того, чтобы породить в нем определенное стремление к чему-нибудь «новому»... Потому-то он и заблудился в пустыне безвыходного и бесплодного отрицания» (Г. В. Плеханов, «Генрик Ибсен»). «Психоанализ» Плеханова уводит нас в социологию. Плеханов рассматривает Ибсена, как общественного человека, поэтому результаты его анализа отнюдь не монотонны и дают ответы на главные вопросы, интересовавшие Ибсена, как художника. Психоанализ Фрейда проходит целиком мимо этих вопросов, он не касается основного содержания ни «Росмерсгольма», ни творчества Ибсена. Инцест в драме все же деталь, хотя и очень существенная: трагедия Реббеки начинается не с этого момента, а с того, когда она почувствовала, что суровое мировоззрение Росмерсгольма лишило ее смелой воли. Не понимая, что человек есть общественное животное, что наше по- ведение и помыслы нельзя понять, не изучив общественной среды, их питаю- щей, фрейдисты еще более далеки от применения классовой точки зрения в искусствоведении. Это понятно. Точка зрения, рассматривающая индивида, изолированного от общественной среды, неминуемо ведет к отказу и от клас- сового анализа: общественная жизнь со времени разделения общества на классы протекает в формах классовой борьбы; тот, кто отказывается от общественной точки зрения, тем самым, конечно, отказывается и от клас- совой. И. Григорьев считает, что фрейдизм может оказать известную услугу марксистам при анализе техники, с помощью которой создаются идео- логические ценности, являющиеся надстройкой над экономическим базисом. Психоанализ, по его мнению, может показать, каким образом в религиозных,
- 118. 118 в нравственных и эстетических нормах следует обнаруживать реальные комплексы скрытых интересов. Утверждение это в корне ошибочно. Возможно, что для выяснения техники душевной жизни отдельного человека Фрейд сделал очень много, но для того, чтобы понять технику, при помощи которой реальные общественные интересы отражаются в общественных идеологических ценностях, надо знать динамику классовой борьбы. Без этого невозможно сделать ни одного шага. Но мы уже знаем, что динамика классовой борьбы органически чужда фрейдизму, и не было случая, чтобы фрейдисты, по крайней мере в лице своих наиболее авторитетных представителей, становились на классовую точку зрения при истолковании явлений общественной жизни. Тот, кто полагает, что здесь зло не так большой руки, стоит лишь соединить фрейдизм с марксизмом, сильно за- блуждается: фрейдистам чужд органически социологический подход Они субъективисты. Поэтому их метод в искусствоведении лишен всякого исто- ризма. Они вынуждены топтаться на одном месте. Дальше монотонных ре- зультатов они и не могут пойти. Еще на одном вопросе необходимо остановиться. Фрейдисты утвер- ждают, что художник бессознательно вуалирует и тщательно зашифровывает в образах своего воображения свои подлинные намерения и свое поведение (эдипов комплекс). Благодаря такому «идеальному» переживанию он освобо- ждается от власти бессознательных импульсов. Не будем спорить на этот раз. Но вот в чем вопрос: скрывает ли в своих произведениях художник наме- рения своих героев? Известно, что, создавая те или иные типы, художник часто, так сказать, гримирует в них разные стороны своего «я». Все же ста- вить знак равенства между автором и изображаемыми им героями нельзя Собакевич, Чичиков, Хлестаков, Онегин, Печорин, Платон Каратаев живут в произведениях своей собственной, отличной от писателя жизнью. Чтобы живописать, писатель должен отойти от них, объективировать их, даже наиболее близких и родных ему. Так вот. Один из основных методов, кото- рым пользовались до сих пор большие мастера в искусстве, состоял как раз в разоблачении истинных намерений, чувств и мыслей изображаемых ими героев Словом, художник не только скрывает, но и разоблачает. Он из- ображает своих персонажей не такими, как они о себе думают, и не такими, какими они представлялись бы нам, если бы жили среди нас, а такими, какими они являются в действительности. Сокровенные думы и чувства, тайные страсти и вожделения, нераскрытые преступления, все, что обычно тщательно хоронится от общественного мнения, от постороннего глаза, что не ведомо даже самому герою, — все это делает предметом своего изображения художник, во все эти потаенные углы и уголки человеческих переживаний проникает он силой своего творческого дара. Возьмите двух корифеев русской литературы — Толстого и Достоевского, во многом противоположных друг другу. И тот и другой с гигантской силой разоблачали своих героев и через них часто себя. Толстой «снимал покровы» со всего кажущегося, фальшивого, лживого, напускного, исковерканного современной цивилизацией, — Достоевский опускал нас в подполье
- 119. 119 человеческих чувств и мыслей, мучая и терзая себя и читателя. Мы хотим сказать — если, по мнению фрейдистов, к Толстому и Достоевскому необходимо применять психоанализ, то, с другой стороны, Толстой и Достоевский сами пользовались психоанализом. Своеобразный психоанализ в искусстве применялся давно до Фрейда. Художники разоблачали ‚и себя, и своих героев. Но их свидетельства далеко не совпадают с учением Фрейда. Несмотря на колоссальную силу интуиции, ни Толстой, ни Достоевский не нашли, что в человеческой психике господствуют по существу психопатологические сексуальные чувства (эдипов комплекс), или, что бессознательные намерения, антиобщественные по своему содержанию, покрывают все поле нашего сознания и руководят нашими поступками. А они более, чем кто-либо, знали, какое значение динамическое бессознательное имеет в жизни человека. Далее, изображая своих героев, они были поистине далеки от монотонных результатов; вскрывая намерения людей, они инстинктивно рассматривали их в зависимости от окружающей общественной среды. Наиболее поучителен с этой стороны реалист Толстой. В своих произведениях он воистину был стихийный материалистический диалектик. Но даже более субъективный Достоевский, кажется, самый притягательный для фрейдистов, знал, что личность неотрывна от среды. Его психоанализу отнюдь не был чужд элемент общественности. Кроме того, великие мастера художественного слова избегали монотонных результатов благодаря тому, что не скупились изображать действительность, которая питала их творчество своим могучим богатством и разнообразием. IV. Выводы На всем учении Фрейда лежит печать субъективизма и идеализма. Фрейд признает зависимость нашего сознания только от безликого бессо- знательного, тем самым решая отрицательно вопрос о причинной связи сознания с внешним миром. Отсюда теория снов-символов. Данные сознания являются лишь символами и иероглифами, за которыми скрыты субъективные бессознательные намерения. Задача искусствоведа сводится к толкованию этих «сновидений» в художественных произведениях. Вопрос об отражении действительности художником отбрасывается. Намерения трактуются в субъективном смысле, оторванно от внешней среды. Такая методологическая установка марксистскому искусствоведению чужда, ибо марксизм и в науке и в искусстве исходит прежде всего из положения, что мышление определяется бытием и что наши восприятия являются не только иероглифами ‚субъективных намерений, но и образами независимо от ‚нас существующей действительности. Учение о динамическом бессознательном, по-видимому, ценное и плодотворное для психиатров, носит, тем не менее, односторонний характер. Оно гиперболизует бессознательную стихию в индивиде, отрицая активность сознательных импульсов. Бессознательное фрейдисты сводят исключительно к сексуальным мотивам, не отводя никакого места иным, не менее могучим
- 120. 120 побуждениям. Сексуальные импульсы обнимают собой у них атавистические и патологические влечения: нарциссизм, эдипов комплекс, гомосексуализм, лесбийскую любовь и т.д. Психическая архитектоника личности, в том числе и личности художника, следовательно, носит психопатологический характер и должна, собственно говоря, служить объектом анализа только для психи- атра и психопатолога. Положительные элементы в учении Фрейда о дина- мическом бессознательном (интуитивный процесс творчества, иррациональ- ность поступков и Действий под влиянием бессознательной стихии, рацио- нализация скрытых импульсов и вытеснение их) большею частью и раньше учитывались марксизмом и в частности марксистским искусствоведением, но марксизм никогда не впадал в непомерные преувеличения фрейдистов. В полном соответствии со своей субъективной идеалистической системой взглядов фрейдисты при психоанализе художественных произведений остаются на почве изучения изолированного от всего общества индивида. Подобно тому, как данные наших восприятий они рассматривают в связи не с внешней средой, а только со стихией бессознательного, художник, его герои, персонажи анализируются школой Фрейда изолировано от общественно-исторической среды. Фрейдисты имели бы основание это делать, если бы ограничивали себя областью психобиологических исследований. Между тем свой метод они все чаще и чаще начинают применять к явлениям общественным, механику и динамику которых можно понять путем анализа общественного человека, путем общественного, а не индивидуального психоанализа. На практике психоанализ Фрейда в искусствоведении подобен бегу на месте. Он лишен историзма. Русским фрейдистам, не знающим ни меры, ни ограничений, грозит к тому же прямая опасность увязнуть в открытиях, что такой-то художник стремился к кровосмешению, другой к отцеубийству, третий жаждал изнасиловать мать и т.д. Несуразности и преувеличения здесь легко могут выродиться в пикантную пошлятину. Советская общественность уделяет сейчас фрейдизму, несомненно, большое внимание. Чем объяснить такой интерес? Некоторые стороны фрейдизма с внешней, с показной стороны выглядят как будто по- марксистски. Таково. например, учение о скрытых бессознательных намерениях, о рационализации и сублимации их. Взятые сами по себе, изолированно, эти стороны психоанализа имеют марксистскую внешность. Только приведенные в общую связь со всей системой взглядов Фрейда, они обнаруживают свое кровное сродство не с марксизмом, а с «величественными метафизическими системами». Обилие медицинских терминов, слишком позитивная внешность, все это склоняет к соблазну соединить фрейдизм с марксизмом. Особенно этому соблазну легко поддаются марксиствующие и марксистообразные беспартийные круги интеллигенции, тяготеющие к марксизму, но’ все же отстоящие от него на известной дистанции. Надо также помнить, что наше время напряженнейших классовых битв очень субъективное. Спокойное исследование вопроса почти исключено. Практика властно врывается в теорию.
- 121. 121 Но есть, по всей вероятности, и другие причины. В связи со стабилиза- цией капитализма, с нэпом и с задержкой в темпе революционной борьбы на Западе у нас значительно возрос вкус и интерес к личным проблемам, среди которых проблема пола занимает весьма почтенное место. Кое-где замечается также разочарование в рациональном направлении и ходе общественной борьбы пролетариата. Известно, что нэп до сих пор подсознательно и сознательно иногда истолковывается, как прямая сдача позиций революционным разумом сомнительным силам общественной стихии. Нотки безочарования и разочарования просачиваются даже в некоторые неустойчивые круги коммунистической партии и комсомола. Фрейдизм с его апологией и гиперболизацией бессознательного и сексуальных влечений может прийтись по душе и вызвать большой интерес к себе в среде пошатнувшихся, впавших в полуразмагниченное состояние по поводу «будней революции». Впрочем, эти предположения есть только грубая наметка, кажущаяся нам вероятной, но требующая особого и более тщательного обследования. Пока мы хотим сказать, что фрейдизм, как система взглядов с марксистским искусствоведением — не совместим. * * P. S. В №12 «Вестника Коммунистической Академии» за 1925 год помещена стенограмма содержательного доклада В. М. Фриче на интересующую нас тему «Фрейдизм и искусство». Докладчик ограничил себя рассмотрением преимущественно сексуальной теории Фрейда. Выводы формулированы т. Фриче в таких тезисах: «1. Выводя художественный акт в конечном счете из сексуального ‚чувства, порою даже отождествляя их, венская школа противоречит тому, что мы знаем о происхождении искусства и об искусстве на ранних ступенях цивилизации. 2. Считая художественный акт сублимацией инцестуозного комплекса, она эротически препарирует известные литературные образы, подобно тому, как венские поэты эротически препарируют своих героев. 3. Чрезмерное увлечение венской школы сексуальным моментом осо- бенно наглядно сказалось в их истолковании психологии и образа монархо- борца. 4. Сексуализируя другие понятия-символы, которыми оперируют ху- дожники, они противоречат друг другу жесточайшим образом. 5. Искусство в их истолковании лишено характера социально-органи- зующего начала, и его социальное значение сводится разве к некоторому ‚ обезвреживанию культурно ненужных аффектов. 6. Допуская в низших ступенях культуры обусловленность художе- ственного творчества внешними причинами, венская школа считает художника на более высоких ступенях культуры свободным от всяких социальных, культурных и литературных влияний.
- 122. 122 7. Рассматривая художников вне исторической среды, она превратно толкует их творчество и совершенно не в состоянии объяснить своеобразие их тематики и формы. 8. Усматривая в истории искусства лишь смену великих творцов, вен- ская школа тем самым отрицает идею науки об искусстве, как о закономер- ном процессе развития. 9. Занимаясь не историей искусства, а психологией художника, она последнюю тайну художника—его способность сублимации—не разгадала. 10. На всем учении венской школы об искусстве, поскольку оно нами изложено, лежит печать — хотя и интересного, но явного — дилетантизма». Соображения тов. Фриче нам кажутся правильными, как и его вывод о несовместимости марксизма с фрейдизмом. В прениях по докладу приняли участие Лебедев-Полянский, Харазов, Столпнер, Переверзев. Отсылая интересующихся читателей к стенограмме, мы кратчайшим образом отметим их итоги. Т.Лебедев-Полянский, согла- шаясь с выводами В. М. Фриче, полагает, что отдельные биологические мо- менты фрейдизма содержат много интересного и здорового. Сюда следует отнести, например, положение, что в творчестве колоссальную роль играет подсознание. Фрейдизм ни в какой мере не может заменить марксизма, но может оказаться полезным при анализе индивидуальных особенностей художника. Харазов считает, что Фрейд замечателен, как психиатр, и многое может дать и в искусствоведении. Правильна мысль, что все вытекает из се- ксуальности. «Тут нет ничего ужасного и страшного». По мнению Столпнера, Фрейд — человек гениальной интуиции, но в его учении есть много надуманного (инцест, эдипов комплекс и т.д.). В своей области фрейдизм законная, реальная гипотеза. Но «фрейдизм распространяется на область первобытной культуры... переносится в область изучения литературы... Фрейдизм в области изучения литературы ничего не дает. Это пустое место». Переверзев утверждает: «считать фрейдизм материалистической системой, родственной марксизму—глубочайшая иллюзия. Фрейдизм и психоанализ насквозь идеалистические системы... Фрейд в своем психоанализе исходит из субъекта, от анализа субъективных переживаний... марксизм ничем не может позаимствоваться от фрейдизма в своих искусствоведческих исследованиях. Идея подсознательного давным- давно известна марксистам, но понятие о подсознательном у марксистов другое, чем у Фрейда. «Это не то, что принадлежит специфически индивидууму, а это то, что откуда-то из биологических глубин, из массовой стихии — это род, это коллектив, который живет в индивидуальной психике. По мнению Фрейда, искусство целиком лежит в области невропатологии, марксисту-социологу тут делать нечего». Психоанализу Фрейда в «Коммунистической Академии» явно и за- конно не повезло. Красная новь, 1925, № 7, с. 241–261(2)
- 123. 123 Психология искусства (фрагмент) Л. С. Выготский ГЛАВА IV. ИСКУССТВО И ПСИХОАНАЛИЗ Уже рассмотренные нами прежде две психологические теории искусства показали с достаточной ясностью, что до тех пор, пока мы будем ограничиваться анализом процессов, происходящих в сознании, мы едва ли найдем ответ на самые основные вопросы психологии искусства. Ни у поэта, ни у читателя не сумеем мы узнать, в чем заключается сущность того переживания, которое связывает их с искусством, и, как легко заметить, самая существенная сторона искусства в том и заключается, что и процессы его создания и процессы пользования им оказываются как будто непонятными, необъяснимыми и скрытыми от сознания тех, кому при- ходится иметь с ними дело. Мы никогда не сумеем сказать точно, почему именно понравилось нам то или другое произведение; словами почти нельзя выразить сколько-нибудь существенных и важных сторон этого переживания, и, как отмечал еще Платон (в диалоге «Ион»), сами поэты меньше всего знают, каким способом они творят. Не надо особой психологической проницательности для того, чтобы заметить, что ближайшие причины художественного эффекта скрыты в бессознательном и что, только проникнув в эту область, мы сумеем подойти вплотную к вопросам искусства. С анализом бессознательного в искусстве произошло то же самое, что вообще с введением этого понятия в психологию. Психологи склонны были утверждать, что бессознательное, по самому смыслу этого слова, есть нечто находящееся вне нашего сознания, то есть скрытое от нас, неизвестное нам, и, следовательно, по самой природе своей оно есть нечто непознаваемое. Как только мы познаем бес- сознательное, оно сейчас же перестанет быть бессознательным, и мы опять имеем дело с фактами нашей обычной психики. Мы уже указывали в первой главе, что такая точка зрения ошибочна и что практика блестяще опровергла эти доводы, показав, что наука изучает не только непосредственно данное и сознаваемое, но и целый ряд таких явлений и фактов, которые могут быть изучены косвенно, посредством следов, анализа, воссоздания и при помощи материала, который не только совершенно отличен от изучаемого предмета, но часто заведомо является ложным и неверным сам по себе. Так же точно и бессознательное делается предметом изучения психолога не само по себе, но косвенным путем, путем анализа тех следов, которые оно оставляет в нашей психике. Ведь бессознательное не отделено от сознания какой-то непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в нем, имеют часто свое продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное вытесняется нами в подсознательную
- 124. 124 сферу. Существует постоянная, ни на минуту не прекращающаяся, живая динамическая связь между обеими сферами нашего сознания. Бессознатель- ное влияет на наши поступки, обнаруживается в нашем поведении, и по этим следам и проявлениям мы научаемся распознавать бессознательное и законы, управляющие им. Вместе с этой точкой зрения отпадают прежние приемы толкования психики писателя и читателя, и за основу приходится брать только объективные и достоверные факты, анализируя которые можно получить некоторое знание о бессознательных процессах. Само собой разумеется, что такими объективными фактами, в которых бессознательное проявляется всего ярче, являются сами произведения искусства и они-то и делаются исходной точкой для анализа бессознательного. Всякое сознательное и разумное толкование, которое дает художник или читатель тому или иному произведению, следует рассматривать при этом как позднейшую рационализацию, то есть как некоторый самообман, как некоторое оправдание перед собственным разумом, как объяснение, придуманное постфактум. Таким образом, вся история толкований и критики как история того явного смысла, который читатель последовательно вносил в какое-нибудь художественное произведение, есть не что иное, как история рационали- зации, которая всякий раз менялась по-своему, и те системы искусства, которые сумели объяснить, почему менялось понимание художественного произведения от эпохи к эпохе, в сущности, очень мало внесли в психологию искусства как таковую, потому что им удалось объяснить, почему менялась рационализация художественных переживаний, но как менялись самые пере- живания—этого такие системы открыть не в силах. Совершенно правильно говорят Ранк и Захс, что основные эстетические вопросы остаются неразрешимыми, «пока мы при нашем анализе ограничиваемся только процессами, разыгрывающимися в сфере нашего сознания... Наслаждение художественным творчеством достигает своего кульминационного пункта, когда мы почти задыхаемся от напряжения, когда волосы встают дыбом от страха, когда непроизвольно льются слезы сострадания и сочувствия. Все это ощущения, которых мы избегаем в жизни и странным образом ищем в искусстве. Действие этих аффектов, очевидно, совсем иное, когда они исходят из произведений искусства, и это эстетическое изменение действия аффекта от мучитель- ного к приносящему наслаждение является проблемой, решение которой может быть дано только при помощи анализа бессознательной душевной жизни» (156, с. 127–128). Психоанализ и является такой психологической системой, которая предметом своего изучения избрала бессознательную жизнь и ее проявления. Совершенно понятно, что для психоанализа было особенно соблазнительно попробовать применить свой метод к толкованию вопросов искусства. До сих пор психоанализ имел дело с двумя главными фактами проявления бес- сознательного — сновидением и неврозом. И первую и вторую форму он
- 125. 125 понимал и толковал как известный компромисс или конфликт между бессознательным и сознательным. Естественно было попытаться взглянуть и на искусство в свете этих двух основных форм проявления бессознательного. Психоаналитики с этого и начали, утверждая, что искусство занимает среднее место между сновидением и неврозом и что в основе его лежит конфликт, который уже «перезрел для сновидения, но еще не сделался патогенным» (157, с. 53). В нем так же, как и в этих двух формах, проявляется бессознательное, но только несколько иным способом, хотя оно совершенно той же природы. «Таким образом, художник в психологическом отношении стоит между сновидцем и невротиком; психологический процесс в них по существу одинаков, он только различен по степени...» (157, с. 53). Легче всего представить себе психоаналитическое объяснение искусства, если последовательно проследить объяснение творчества поэта и восприятие читателя при помощи этой теории. Фрейд указывает на две формы проявления бессознательного и изменения действительности, которые подходят к искусству ближе, чем сон и невроз, и называет детскую игру и фантазии наяву. «Несправедливо думать,— говорит он,— что ребенок смотрит на созданный им мир несерьезно; наоборот, он относится к игре очень серьезно, вносит в нее много одушевления. Противоположение игре не серьезность, но—действительность. Ребенок прекрасно отличает, несмотря на все увлечения, созданный им мир от действительного и охотно ищет опоры для воображаемых объектов и отношений в осязаемых и видимых предметах действительной жизни... Поэт делает то же, что и играющее дитя, он создает мир, к которому относится очень серьезно, то есть вносит много увлечения, в то же время резко отделяя его от действительности» (121, с. 18). Когда ребенок перестает играть, он не может, однако, отказаться от того наслаждения, которое ему прежде доставляла игра. Он не может найти в действительности источник для этого удовольствия, и тогда игру ему начинают заменять сны наяву или те фантазии, которым предается большинство людей в мечтах, воображая осуществление своих часто любимых эротических или каких-либо иных влечений. «...Вместо игры он теперь фантазирует. Он строит воздушные замки, творит то, что называют «снами наяву» (121, с. 19). Уже фантазирование наяву обладает двумя существенными моментами, которые отличают его от игры и приближают к искусству. Эти два момента следующие: во-первых, в фантазиях могут проявляться в качестве их основного материала поучительные переживания, которые тем не менее доставляют удовольствие, случай как будто напоминает изменение аффекта в искусстве. Ранк говорит, что в них даются «ситуации, которые в действительности были бы чрезвычайно мучительны; они рисуются фантазией, тем не менее с тем же наслаждением. Наиболее частый тип таких фантазий—собственная смерть, затем другие страдания и несчастья. Бедность, болезнь, тюрьма и позор представлены далеко не редко; не менее редко в таких снах выполнение позорного преступления и его обнаружение» (157, с. 131).
- 126. 126 Правда, Фрейд в анализе детской игры показал, что и в играх ребенок претворяет часто мучительные переживания, например, когда он играет в доктора, причиняющего ему боль, и повторяет те же самые операции в игре, которые в жизни причиняли ему только слезы и горе (см. 143). Однако в снах наяву мы имеем те же явления в неизмеримо более яркой и резкой форме, чем в детской игре. Другое существенное отличие от игры Фрейд замечает в том, что ребенок никогда не стыдится своей игры 30 и не скрывает своих игр от взрослых, «а взрослый стыдится своих фантазий и прячет их от других, он скрывает их, как свои сокровеннейшие тайны, и охотнее признается в своих проступках, чем откроет свои фантазии. Возможно, что он вследствие этого считает себя единственным человеком, который имеет подобные фантазии, и не имеет представления о широком распространении подобного же творчества среди других». Наконец, третье и самое существенное для понимания искусства в этих фантазиях заключается в том источнике, из которого они берутся. Нужно сказать, что фантазирует отнюдь не счастливый, а только неудовлет- воренный. Неудовлетворенные желания — побудительные стимулы фантазии. Каждая фантазия—это осуществление желания, корректив к неудовлетворяющей действительности. Поэтому Фрейд полагает, что в основе поэтического творчества, так же как в основе сна и фантазий, лежат неудовлетворенные желания, часто такие, «которых мы стыдимся, которые мы должны скрывать от самих себя и которые поэтому вытесняются в область бессознательного» (121, с. 20, 23). Механизм действия искусства в этом отношении совершенно напоминает механизм действия фантазии. Так, фантазия возбуждается обычно сильным, настоящим переживанием, которое «будит в писателе старые воспоминания, большей частью относящиеся к детскому переживанию, исходному пункту желания, которое находит осуществление в произведении... Творчество, как «сон наяву», является продолжением и заменой старой детской игры» (121, с. 26, 27). Таким образом, художественное произведение для самого поэта является прямым средством удовлетворить неудовлетворенные и неосуществленные желания, которые в действительной жизни не получили осуществления. Как это совершается, можно понять при помощи теории аффектов, развитой в психоанализе. С точки зрения этой теории аффекты «могут остаться бессознательными, в известных случаях должны остаться бессознательными, причем отнюдь не теряется действие этих аффектов, неизменно входящее в сознание. Попадающее таким путем в сознание наслаждение или же чувство ему обратное скрепляется с другими аффектами или же с относящимися к ним представлениями... Между обоими должна существовать тесная ассоциативная связь, и по пути, проложенному этой ассоциацией, перемещается наслаждение и соединенная с ним энергия. Если эта теория правильна, то должно быть возможно и ее применение на нашей проблеме. Вопрос разрешался бы приблизительно так: художественное произведение
- 127. 127 вызывает наряду с сознательными аффектами также и бессознательные, гораздо большей интенсивности и часто противоположно окрашенные. Представления, с помощью которых это совершается, должны быть так избраны, чтобы у них наряду с сознательными ассоциациями были бы достаточные ассоциации с типичными бессознательными комплексами аффектов. Способность выполнить эту сложную задачу художественное произведение приобретает в силу того, что при своем возникновении оно играло в душевной жизни художника ту же роль, что для слушателя при репродукции, то есть давало возможность отвода и фантастического удовлетворения общих им бессознательных желаний» (156, с. 132–134). На этом основании целый ряд исследователей развивает теорию поэтического творчества, в которой сопоставляет художника с невротиком, хотя вслед за Штекелем называет смехотворным построение Ломброзо и проводимое им сближение между гением и сумасшедшим. Для этих авторов поэт совершенно нормален. Он невротик и «осуществляет психоанализ на своих поэтических образах. Он чужие образы трактует как зеркало своей души. Он предоставляет своим диким наклонностям вести довлеющую жизнь в построенных образах фантазии». Вслед за Гейне они склонны думать, что поэзия есть болезнь человека, спор идет только о том, к какому типу душевной болезни следует приравнять поэта. В то время как Ковач приравнивает поэта к параноику, который склонен проецировать свое «я» во- вне, а читателя уподобляет истерику, который склонен субъективировать чужие переживания, Ранк склонен в самом художнике видеть, не параноика, а истерика. Во всяком случае, все согласны с тем, что поэт в творчестве высвобождает свои бессознательные влечения при помощи механизма переноса или замещения, соединяя прежние аффекты с новыми представлениями. Поэтому, как говорит один из героев Шекспира, поэт выплакивает собственные грехи в других людях, и знаменитый вопрос Гамлета: что ему Гекуба или он ей, что он так плачет о ней,—Ранк разъясняет в том смысле, что с представлением Гекубы у актера соединяются вытесненные им массы аффекта, и в слезах, оплакивающих как будто несчастье Гекубы, актер на самом деле изживает свое собственное горе. Мы знаем знаменитое признание Гоголя, который утверждал, что он избавлялся от собственных недостатков и дурных влечений, наделяя ими героев и отщепляя таким образом в своих комических персонажах собственные пороки. Такие же признания засвидетельствованы целым рядом других художников, и Ранк отмечает, отчасти совершенно справедливо, что, «если Шекспир видел до основания душу мудреца и глупца, святого и преступника, он не только бессознательно был всем этим — таков, быть может, всякий,— но он обладал еще отсутствующим у всех нас остальных дарованием видеть свое собственное бессознательное и из своей фантазии создавать, по- видимому, самостоятельные образы» (156, с. 17). Совершенно серьезно психоаналитики утверждают, как говорит Мюллер-Фрейенфельс, что Шекспир и Достоевский потому не сделались преступниками, что изображали убийц в своих произведениях и таким
- 128. 128 образом изживали свои преступные наклонности. При этом искусство оказывается чем-то вроде терапевтического лечения для художника и для зрителя—средством уладить конфликт с бессознательным, не впадая в невроз. Но так как психоаналитики склонны все влечения сводить к одному и Ранк даже берет эпиграфом к своему исследованию слова поэта Геббеля: «Удивительно, до какой степени можно свести все человеческие влечения к одному», у них по необходимости вся поэзия сводится к сексуальным переживаниям, как лежащим в основе всякого поэтического творчества и восприятия; именно сексуальные влечения, по учению психоанализа, состав- ляли основной резервуар бессознательного, и тот перевод фондов психической энергии, который совершается в искусстве, есть по преимуществу сублимация половой энергии, то есть отклонение ее от непосредственно сексуальных целей и превращение в творчество. В основе искусства лежат всегда бессознательные и вытесненные, то есть несоглашающиеся с нашими моральными, культурными и т.п. требованиями, влечения и желания. Именно потому запретные желания при помощи искус- ства достигают своего удовлетворения в наслаждении художественной формой. Но именно при определении художественной формы сказывается самая слабая сторона рассматриваемой нами теории—как она понимает форму. На этот вопрос психоаналитики никак не дают исчерпывающего ответа, а те попытки решения, которые они делают, явно указывают на недостаточность их отправных принципов Подобно тому как во сне пробуждаются такие желания, которых мы стыдимся, так же, говорят они, и в искусстве находят свое выражение только такие желания, которые не могут быть удовлетворены прямым путем. Отсюда понятно, что искусство всегда имеет дело с преступным, стыдным, отвергаемым И подобно тому как во сне подавленные желания проявляются в сильно искаженном виде, так же точно в художественном произведении они проявляются замаскированные формой. «После того как научным изысканиям,— говорит Фрейд,—удалось установить искажение снов, нетрудно увидеть, что сны представляют такое же осуществление желаний, как и «сны наяву», всем нам хорошо знакомые фантазии» (121, с. 23–24). Так же точно и художник, для того чтобы дать удовлетворение своим вытесненным желаниям, должен облечь их в художественную форму, которая с точки зрения психоанализа имеет два основных значения Во-первых, эта форма должна давать неглубокое и поверхностное, как бы самодовлеющее удовольствие чисто чувственного порядка и служить приманкой, обещанной премией или, правильнее сказать, предварительным наслаждением, заманивающим читателей в трудное и тяжелое дело отреагирования бессознательного. Другое ее назначение состоит в том, чтобы создать искусственную маскировку, компромисс, позволяющий и обнаружиться запретным желаниям и тем не менее обмануть вытесняющую цензуру сознания.
- 129. 129 С этой точки зрения форма исполняет ту же самую функцию, что искажение в сновидениях Ранк прямо говорит, что эстетическое удовольствие равно у художника, как и воспринимающего, есть только Vorlust, которое скрывает истинный источник удовольствия, чем обе- спечивает и усиливает его основной эффект. Форма как бы заманивает читателя и зрителя и обманывает его, так как он полагает, что все дело в ней, и обманутый этой формой читатель получает возможность изжить свои вытесненные влечения. Таким образом, психоаналитики различают два момента удовольствия в художественном произведении: один момент—предварительного наслаждения и другой—настоящего. К этому предварительному наслаж- дению аналитики и сводят роль художественной формы. Следует внимательно разобраться в том, насколько исчерпывающе и согласно с фактами эта теория трактует психологию художественной формы. Сам Фрейд спрашивает: «Как это удается писателю?—это его сокровеннейшая тайна; в технике преодоления того, что нас отталкивает... лежит истинная poetica. Мы можем предположить двух родов средства: писатель смягчает ха- рактер эгоистических «снов наяву» изменениями и затушевываниями и подкупает нас чисто формальными, то есть, эстетическими, наслаждениями, которые он дает при изображении своих фантазий... Я того мнения, что всякое эстетическое наслаждение, данное нам писателем, носит характер этого «преддверия наслаждения» и что настоящее наслаждение от поэтического произведения объясняется освобождением от напряжения ду- шевных сил» (121, с. 28). Таким образом, и Фрейд спотыкается на том же самом месте о пресловутое художественное наслаждение, и как он разъясняет в своих последних работах, «хотя искусство, как трагедия, возбуждает в нас целый ряд мучительных переживаний, тем не менее конечное его действие подчинено принципу удовольствия так же точно, как и детская игра» (см. 143). Однако при анализе этого удовольствия теория впадает в невероятный эклектизм. Помимо двух уже указанных нами источников удовольствия многие авторы называют еще целый ряд других. Так, Ранк и Сакс указывают на экономию аффекта, которому художник не дает моментально бесполезно разгореться, но заставляет медленно и закономерно повышаться. И эта экономия аффекта оказывается источником наслаждения. Другим источником оказывается экономия мысли, которая, сберегая энергию при восприятии художественного произведения, опять-таки источает удовольствие. И, наконец, чисто формальный источник чувственного удовольствия эти авторы видят в рифме, в ритме, в игре словами, которую сводят к детской радости. Но и это удовольствие, оказывается, опять дробит- ся на целый ряд отдельных форм: так, например, удовольствие от ритма объясняется и тем, что ритм издавна служит средством для облегчения работы, и тем, что важнейшие формы сексуального действия и сам половой акт ритмичны и что «таким путем определенная деятельность при помощи
- 130. 130 ритма приобретает известное сходство с сексуальными процессами, сексуализируется» (156, с. 139—140). Все эти источники переплетаются в самой пестрой и ничем не обоснованной связи и в целом оказываются совершенно бессильными объяснить значение и действие художественной формы. Она объясняется только как фасад, за которым скрыто действительное наслаждение, а действие этого наслаждения основывается в конечном счете скорее на содержании произведения, чем на его форме. «Неоспоримой истиной считается, что вопрос: «Получит ли Ганс свою Грету?»—является главной темой поэзии, бесконечно повторяющейся в бесконечных вариантах и никогда не утомляющей ни поэта, ни его публики» (156, с. 141), и различие между отдельными родами искусства в конечном счете сводится психоанализом к различию форм детской сексуальности. Так, изобразительное искусство объясняется и понимается при этом как сублимирование инстинкта сексуального разглядывания, а пейзаж возникает из вытеснения этого желания. Из психоаналитических работ мы знаем, что «...у художников стремление к изображению человеческого тела заменяет интерес к материнскому телу и что интенсивное вытеснение этого желания инцестуозного переносит интерес художника с человеческого тела на природу. У писателя, не интересующегося природой и ее красотами, мы находим сильное вытеснение страсти к разглядыванию» (76, с. 71). Другие роды и виды искусства объясняются приблизительно так же, совершенно аналогично с другими формами детской сексуальности, причем общей основой всякого искусства является детское сексуальное желание, известное под именем комплекса Эдипа, который является «психологическим базисом искусства. Особенное значение в этом отношении имеет комплекс Эдипа, из сублимированной инстинктивной силы которого почерпнуты образцовые произведения всех времен ч народов» (156, с. 142). Сексуальное лежит в основе искусства и определяет собой и судьбу художника и характер его творчества. Совершенно непонятным при этом истолковании делается действие художественной формы; она остается ка- ким-то придатком, несущественным и не очень важным, без которого, в сущности говоря, можно было бы и обойтись. Наслаждение составляет только одновременное соединение двух противоположных сознаний: мы ви- дим и переживаем трагедию, но сейчас же соображаем, что это происходит не в самом деле, что это только кажется. И в таком переходе от одного сознания к другому и заключается основной источник наслаждения. Спра- шивается, почему всякий другой, не художественный рассказ не может исполнить той же самой роли? Ведь и судебная хроника, и уголовный роман, и просто сплетня, и длинные порнографические разговоры служат постоянно таким отводом для неудовлетворенных и неисполненных желаний. Недаром Фрейд, когда говорит о сходстве романов с фантазиями, должен взять за образец откровенно плохие романы, сочинители которых угождают массовому и довольно невзыскательному вкусу, давая пищу не столько для эстетических эмоций, сколько для открытого изживания скрытых стремлений.
- 131. 131 И становится совершенно непонятным, почему «поэзия пускает в ход... всевозможные ласки, изменение мотивов, превращение в противоположность, ослабление связи, раздробление одного образа в многие, удвоение процессов, опоэтизирование материала, в особенности же символы» (156, с. 134). Гораздо естественнее и проще было бы обойтись без всей этой сложной деятельности формы и в откровенном и простом виде отвлечь и изжить соответствующее желание. При таком понимании чрезвычайно снижается социальная роль искусства, и оно начинает казаться нам только каким-то противоядием, которое имеет своей задачей спасать человечество от пороков, но не имеет никаких положительных задач для нашей психики. Ранк указывает, что художники «принадлежат к вождям человечества в борьбе за усмирение и облагораживание враждебных культуре инстинктов», что они «освобождают людей от вреда, оставляя им в то же время наслаждение» (156, с. 147—148). Ранк совершенно прямо заявляет: «Надо прямо сказать, что по крайней мере в нашей культуре искусство в целом слишком переоценивается» (157, с. 55). Актер—это только врач, и искусство только спасает от болезни. Но гораздо существеннее то непонимание социальной психологии искусства, которое обнаруживается при таком подходе. Действие художественного произведения и поэтического творчества выводится всецело и без остатка из самых древних инстинктов, остающихся неизменными на всем протяжении культуры, и действие искусства ограничивается всецело узкой сферой индивидуального сознания. Нечего и говорить, что это роковым образом противоречит всем самым простейшим фактам действительного положения искусства и его действительной роли. Достаточно указать на то, что и самые вопросы вытеснения — что именно вытесняется, как вытесняется — обусловли- ваются всякий раз той социальной обстановкой, в которой приходится жить и поэту и читателю. И поэтому, если взглянуть на искусство с точки зрения психоанализа, сделается совершенно непонятным историческое развитие искусства, изменение его социальных функций, потому что с этой точки зрения искусство всегда и постоянно, от своего начала и до наших дней, служило выражением самых древних и консервативных инстинктов. Если ис- кусство отличается чем-либо от сна и от невроза, то прежде всего тем, что его продукты социальны в отличие от сновидений и от симптомов болезни, и это совершенно верно отмечает Ранк. Но он оказывается совершенно бессильным сделать какие-либо выводы из этого факта и оценить его по достоинству, указать и объяснить, что именно делает искусство социально ценным и каким образом через эту социальную ценность искусства со- циальное получает власть над нашим бессознательным. Поэт просто оказывается истериком, который как бы вбирает в себя переживания множества совершенно посторонних людей, и оказывается совершенно неспособным выйти из узкого круга, который создан его собственной инфантильностью. Почему все действующие лица в драме непременно должны рассматриваться как воплощение отдельных психологических черт
- 132. 132 самого художника? (175, S. 78). Если это понятно для невроза и для сна, то это делается совершенно непонятным для такого социального симптома бессознательного, каким является искусство. Психоаналитики сами не могут справиться с тем огромным выводом, который получился из их построения. То, что они нашли, в сущности, имеет только один смысл, чрезвычайно важный для социальной психологии, Они утверждают, что искусство по своему существу есть превращение нашего бессознательного в некие социальные формы, то есть имеющие какой-то общественный смысл и назначение формы поведения. Но описать и объяснить эти формы в плане социальной психологии психоаналитики отказались. И чрезвычайно легко показать, почему это случилось именно так: два основных греха заключает в себе психоаналитическая теория с точки зрения социальной психологии. Первым является ее желание свести во что бы то ни стало все решительно проявления человеческой психики к одному сексуальному влечению. Этот пансексуализм кажется совершенно необоснованным в особенности тогда, когда он применяется к искусству. Может быть, это было бы и верно для человека, рассматриваемого вне общества, когда он замкнут в узком круге своих собственных инстинктов. Но как можно согласиться с тем, что у общественного человека, участвующего в очень сложных формах социальной деятельности, не могут возникать и существовать всевозможного рода другие влечения и стремления, которые не менее, чем сексуальные, могут определять его поведение и даже господствовать i ад ним? Чрезмерное преувеличение роли полового чувства кажется особенно очевидным, как только мы от масштаба индивидуальной психологии переходим к пси- хологии социальной. Но даже для личной психики кажутся чрезмерной натяжкой те допущения, которые делает психоанализ. «По утверждению некоторых психоаналитиков, там, где художник рисует прекрасный портрет своей матери или в поэтическом образе воплощает любовь к матери, скрыто исполненное страха инцестуозное желание (комплекс Эдипа). Когда скульптор создает фигуры мальчиков или поэт воспевает горячую юношескую дружбу, психоаналитик сейчас же готов усмотреть в этом гомосексуализм в самых крайних формах... При чтении таких аналитиков создается впечатление, будто вся душевная жизнь состоит только из до- человеческих страшных влечений, как будто все представления, волевые движения, сознание только мертвые куклы, которые тянут за ниточки ужасные инстинкты» (154, S. 183). И в самом деле, психоаналитики, указывая на чрезмерно важную роль бессознательного, сводят совершенно на нет всякое сознание, которое, по выражению Маркса, составляет единственное отличие человека от животного. «Человек отличается от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же — что ею инстинкт осознан» (3, с. 30). Если прежние психологи чрезмерно преувеличивали роль сознания, утверждая его всемогущество, то психоаналитики перегибают палку в другой конец, сводя роль сознания к нулю и утверждая за ним только способность служить слепым орудием в руках бессознательного. Между тем элементарнейшие
- 133. 133 исследования показывают, что и в сознании могут происходить совершенно такие же процессы. Так, экспериментальные исследования Лазурского о влиянии различного чтения на ход ассоциаций показали, что «уже тотчас после прочтения рассуждения наступает в уме распадение прочитанного отрывка, комбинации различных его частей с находившимся ранее в уме запасом мыслей, понятий и представлений» (66, с. 108). Здесь мы имеем совершенно аналогичный процесс распадения и ассоциативного комбинирования прочитанного с прежним душевным запасом. Неучет сознательных моментов в переживании искусства стирает совершенно грань между искусством как осмысленной социальной деятельностью и бессмысленным образованием болезненных симптомов у невротиков или беспорядочным нагромождением образов во сне. Легче и проще всего обнаружить все эти коренные недостатки рассматриваемой теории па тех практических применениях психоаналитического метода, которые сделаны исследователями в иностранной и русской литературе. Здесь сейчас же открывается необычайная бедность этою метода и его полная несостоятельность с точки зрения социальной психологии. В исследовании о Леонардо да Винчи Фрейд пытается вывести всю его судьбу и вое его творчество из его основных детских переживаний, относящихся к самым ранним годам его жизни. Он говорит, что ему хотелось показать, «каким образом художественная деятельность проистекает из первоначальных душевных влечений» (118, с. 111). И когда он заканчивает это исследование, он говорит, что боится услышать приговор, но он просто написал психологический роман, и сам должен сознаться, что он не переоценивает достоверности своих выводов. Для читателя достоверность эта положительно приближается к нулю, поскольку от начала и до самого конца ему приходится иметь дело с догадками, с толкованиями, с сопоставлениями фактов творчества и фактов биографии, между которыми прямой связи установить нельзя. Создается такое впечатление, что психоанализ располагает каким-то каталогом сексуальных символов, что символы эти всегда—во все века и для всех народов — остаются одни и те же и что стоит на манер снотолкователя найти соответствующие символы в творчестве того или другого художника, чтобы по ним восстановить эдипов комплекс, страсть к разглядыванию и т.п. Получается дальше впечатление, что каждый человек прикован к своему эдипову комплексу и что в самых сложных и высоких формах нашей деятельности мы вынуждены только вновь и вновь переживать свою инфан- тильность, и, таким образом, все самое высокое творчество оказывается фиксированным на далеком прошлом. Человек как бы раб своего раннего детства, он всю жизнь разрешает и изживает те конфликты, которые создались в первые месяцы его жизни. Когда Фрейд утверждает, что у Леонардо «ключ ко всей разнообразной деятельности духа и неудачливости таился в детской фантазии о коршуне» (118, с. 118) и что эта фантазия в свою очередь раскрывает в переводе на эротический язык символику полового акта,— против такого упрощенного толкования восстает всякий
- 134. 134 исследователь, который видит, как мало в творчестве Леонардо эта история с коршуном способна раскрыть. Правда, и Фрейд должен признать «известную долю произвольности, которую психоанализом нельзя раскрыть» (118, с. 116). Но если исключить эту известную долю, вся остальная жизнь и все остальное творчество окажутся всецело закабаленными детской половой жизнью. С исчерпывающей ясностью этот недостаток обнаруживается в исследовании о Достоевском Нейфельда: «Как жизнь, так и творчество Достоевского, — говорит он, — загадочны... Но волшебный ключ психоанализа раскрывает эти загадки... Точка зрения психоанализа разъясняет все противоречия и загадки: вечный Эдип жил в этом человеке и создавал эти произведения» (76, с. 12). Поистине гениально! Не волшебный ключ, а какая-то психоаналитическая отмычка, которой можно раскрыть все решительно тайны и загадки творчества. В Достоевском жил и творил вечный Эдип, но ведь основным законом психоанализа считается утверждение, что Эдип живет в каждом решительно человеке. Значит ли это, что, назвав Эдипа, мы разрешили загадку Достоевского? Почему должны мы допустить, что конфликты детской сексуальности, столкновения ребенка с отцом оказались более влиятельными в жизни Достоевского, чем все позднейшие травмы и переживания? Почему не могли мы допустить, что такие, например, переживания, как ожидание казни, как каторга и т.п., не могли служить источником новых и сложных мучительных переживаний? Если мы даже допустим вместе с Нейфельдом, «что писатель ничего иного и не может изобразить, как свои собственные бессознательные конфликты» (76, с. 28), то все же мы никак не поймем, почему эти бессознательные конфликты могут образоваться только из конфликтов раннего детства. «Рассматривая жизнь этого большого писателя в свете психоанализа, мы видим, что его характер, сложившийся под влиянием его отношений к родителям, его жизнь и судьба зависели и целиком определялись его комплексом Эдипа. Извращенность и невроз, болезнь и творческая сила — качество и особенность его характера, все можем мы свести на родительский комплекс и только на него» (76, с. 71— 72). Нельзя представить себе более яркого опровержения защищаемой Нейфельдом теории, чем сказанное только что. Вся жизнь оказывается нулем по сравнению с ранним детством, и из комплекса Эдипа исследователь берется вывести все решительно романы Достоевского. Но беда в том, что при этом один писатель окажется роковым образом похожим на другого, потому что тот же Фрейд учит, что эдипов комплекс есть всеобщее достояние. Только совершенно отвернувшись от социальной психологии и закрыв глаза на действительность, можно решиться утверждать, что писатель в творчестве преследует исключительно бессознательные конфликты, что всякие сознательные социальные задания не выполняются автором в его творчестве вовсе. Удивительный пробел окажется тогда в психологической теории, когда она захочет подойти с этим методом и с этими взглядами ко всей области неизобразительного искусства. Как будет она толковать музыку, декоративную живопись, архитектуру, все то, где простого и
- 135. 135 прямого эротического перевода с языка формы на язык сексуальности сделать нельзя? Эта громадная зияющая пустота самым наглядным образом отвергает психоаналитический подход к искусству и заставляет думать, что настоящая психологическая теория сумеет объединить те общие элементы, которые, несомненно, существуют у поэзии и музыки, и что этими элементами окажутся элементы художественной формы, которую психоанализ считал только масками и вспомогательными средствами ис- кусства. Но нигде чудовищные натяжки психоанализа не бросаются в глаза так, как в русских работах по искусству. Когда профессор Ермаков поясняет, что «Домик в Коломне» надо понимать, как домик колом мне (50, с. 27), или что александрийский стих означает Александра (50, с. 33), а Мавруша означает самого Пушкина, который происходит от мавра (50, с. 26),—то во всем этом ничего, кроме нелепой натяжки и ничего не объясняющей претензии, при всем желании увидеть нельзя. Вот для примера сопоставление, делаемое автором между пророком и домиком. «Как труп в пустыне лежал пророк; вдова, увидев бреющуюся Маврушу,— «ах, ах» и шлепнулась. Упал измученный пророк—и нет серафима, упала вдова — и простыл след Мавруши... Бога глас взывает к пророку, заставляя его действовать: «Глаголом жги сердца людей!» Глас вдовы—«ах, ах» — вызывает постыдное бегство Мавруши. После своего преображения пророк обходит моря и земли и идет к людям; после того как открылся обман, Мавруше не остается ничего другого, как бежать за тридевять земель от людей» (50, с. 162). Совершенная произвольность и очевидная бесплодность таких сопоставлений, конечно, способна только подорвать доверие к тому методу, которым пользуется профессор Ермаков. И когда он поясняет, что «Иван Никифорович близок к природе:—как велит природа— он Довгочхун, то есть долго чихает, Иван Иванович искусственен, он Перерепенко, он, может быть, вырос сверх репы» (49, с. III),—он окончательно подрывает доверие к тому методу, который не может избавить нас от совершенно абсурдного истолкования двух фамилий, одной—в смысле близости к природе, другой— в смысле искусственности. Так изо всего можно вывести решительно все. Классическим образцом таких толкований останется навсегда толкование пушкинского стиха Передоновым в классе на уроке словесности: «С своей волчицею голодной выходит на дорогу волк...» Постойте, это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят. Волк с волчицею голодной: волк сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть, жена во всем должна подчиняться мужу». Психологических оснований для такого толкования есть ровно столько же, сколько и у толкований Ермакова. Но небрежность к анализу формы составляет почти всеобщий недостаток всех психоаналитических исследований, и мы знаем только одно исследование, близкое к совершенству в этом отношении: это исследование—«Остроумие» Фрейда, которое тоже исходит из сближения
- 136. 136 остроты со сновидением. Это исследование, к сожалению, стоит только на грани психологии искусства, потому что сами по себе комический юмор и остроумие, в сущности говоря, принадлежат скорей к общей психологии, чем к специальной психологии искусства. Однако произведение это может считаться классическим образцом всякого аналитического исследования. Фрейд исходит из чрезвычайно тщательного анализа техники остроумия и уже от этой техники, то есть от формы, восходит к соответствующей этой остроте безличной психологии, при этом он отмечает, что при всем сходстве острота для психолога коренным образом отличается от сновидения. «Важнейшее отличие заключается в их социальном соотношении. Сновидение является совершенно асоциальным душевным продуктом; оно не может ничего сказать другому человеку... Острота является, наоборот, самым социальным из всех душевных механизмов, направленных на получение удовольствия» (120, с. 241). Этот тонкий точный анализ позволяет Фрейду не валить в одну кучу все решительно произведения искусства, но даже для таких трех близко стоящих форм, как остроумие, комизм и юмор, указать три совершенно разных источника удовольствия. Единственной погрешностью самого Фрейда является попытка толковать сновиденья вымышленные, которые видят герои литературного произведения как действительные. В этом сказывается тот же наивный подход к произведению искусства, который обнаруживает исследователь, когда по «Скупому рыцарю» хочет изучить действительную скупость. Так, практическое применение психоаналитического метода ждет еще своего осуществления, и мы можем только сказать, что оно должно реализовать на деле и в практике те громадные теоретические ценности, которые заложены в самой теории. Эти ценности в общем сводятся к одному: к привлечению бессознательного, к расширению сферы исследования, к указанию на то, как бессознательное в искусстве становится социальным. Нам придется еще иметь дело с положительными сторонами психоанализа при попытке наметить систему воззрений, которые должны лечь в основу психологии искусства. Однако практическое применение сможет принести какую-либо реальную пользу только в том случае, если оно откажется от некоторых основных и первородных грехов самой теории, если наряду с бессознательным оно станет учитывать и сознание не как чисто пассивный, но и как самостоятельно активный фактор, если оно сумеет разъяснить действие художественной формы, разглядевши в ней не только фасад, но и важнейший механизм искусства; если, наконец, отказавшись от пансексуализма и инфантильности, оно сможет внести в круг своего исследования всю человеческую жизнь, а не только ее первичные и схематические конфликты. И, наконец, последнее: если оно сможет дать правильное, социально- психологическое истолкование и символике искусства и его историческому развитию и поймет, что искусство никогда не может быть объяснено до конца из малого круга личной жизни, но непременно требует объяснения из большого круга жизни социальной.
- 137. 137 Искусство как бессознательное есть только проблема; искусство как социальное разрешение бессознательного — вот ее наиболее вероятный ответ. Выготский Л. С. Психология искусства. М.; 1968, с. 95–113
- 138. 138 Предисловие к русскому переводу книги З. Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» Л. С. Выготский, А. Р. Лурия I Фрейд принадлежит, вероятно, к числу самых бесстрашных умов нашего века. Эта добродетель является, скорее, достоинством практического деятеля, чем ученого и мыслителя. Чтобы действовать, нужна смелость; оказывается, нужно еще неизмеримо большее бесстрашие, чтобы мыслить. Столько половинчатых умов, робких мыслей, неотважных гипотез встречаешь на каждом шагу в науке, что начинает казаться, будто осторожность и следование по чужим стопам сделались чуть ли не обязательными атрибутами официального академического знания. З.Фрейд выступил сразу как революционер. Та позиция, которую вызвал против себя психоанализ в кругах официальной науки, непререкаемо свидетельствует о том, что здесь были дерзко нарушены вековые традиции буржуазной морали и науки и сделан шаг за границы дозволенного. Новой научной мысли и ее создателям пришлось пережить годы глухого отъединения: против нового учения поднялась в широких кругах общества активнейшая вражда и открытое сопротивление. Сам Фрейд говорит, что он «принадлежит к тому сорту людей, которые, по выражению Геббел’я, нарушили покой мира». Так оно и было в действительности. Шум, поднятый вокруг нового учения, постепенно улегся. Ныне всякая новая работа по психоанализу не встречает такого враждебного приема. Мировое признание, если не вполне, то отчасти, сменило прежнюю травлю, и вокруг нового учения создалась атмосфера напряженного интереса, глубокого внимания, и пристального любопытства, в котором не могут отказать ему даже его принципиальные враги. Психоанализ давно перестал быть только одним из методов психотерапии, но разросся в ряд первостепенных проблем общей психологии и биологии, истории культуры и всех так называемых «наук о духе». В частности, у нас в России фрейдизм пользуется исключительным вниманием не только в научных кругах, но и у широкого читателя. В последнее время почти все работы Фрейда переведены на русский язык и выпущены в свет. На наших глазах в России начинает складываться новое и оригинальное течение в психоанализе, которое пытается осуществить синтез фрейдизма и марксизма при помощи учения об условных рефлексах и развернуть систему «рефлексологического фрейдизма» в духе диалектического материализма. Этот перевод Фрейда на язык Павлова, попытка объективно расшифровать темную «психологию глубин» —
- 139. 139 представляет собой живое свидетельство величайшей жизненности этого учения и его неисчерпаемых научных возможностей. С этим признанием не только не миновало «героическое время» для Фрейда, но потребовалось неизмеримо большее мужество и еще больший героизм, чем прежде. Тогда он был представлен самому себе в своем «Splendid Isolation» и устраивался, «как Робинзон на необитаемом острове». Теперь же возникли новые и серьезные опасности — искажение самых основ нового учения, приспособления научной истины к потребностям и вкусам буржуазного миропонимания. Коротко говоря, прежде опасность грозила со стороны врагов, теперь — со стороны друзей. И действительно, ряд виднейших вождей, которым «стало неуютно пребывание в преисподней психоанализа», отошли от него. Эта внутренняя борьба потребовала гораздо большего напряжения сил, чем борьба с врагами. Основная особенность Фрейда заключается в том, что он имеет смелость додумывать всякую мысль до конца, доводить всякое положение до последних и крайних выводов. В этом трудном и страшном деле у него всегда находились спутники, и многие покидали его сейчас же за исходным пунктом и сворачивали в сторону. Этот максимализм мысли послужил причиной того, что и на вершине подъема научного интереса к психоанализу Фрейд, как мыслитель, остался, в сущности, в одиночестве. Предлагаемая вниманию читателям в настоящем переводе книга «Jenseits des Lustprinzips» принадлежит к числу таких именно одиноких работ Фрейда. Даже правоверные психоаналитики иной раз находят возможным обойти эту работу молчанием; что же касается более постороннего круга читателей, то здесь приходится столкнуться и за границей, и в России — с настоящим предубеждением, которое необходимо разъяснить и рассеять. Книга эта приводит к таким ошеломляющим и неожиданным выводам, которые стоят, на первый взгляд, в коренном противоречии со всем тем, что все мы привыкли считать за незыблемую научную истину. Больше того: она противоречит основным положениям, выдвинутым в свое время самим же Фрейдом. Здесь Фрейдом брошен вызов не только общему мнению, но взято под сомнение утверждение, лежащее в основе всех психоаналитических объяснений самого же автора. Бесстрашие мысли в этой книге достигает апогея. Основными объяснительными принципами всех биологических наук мы привыкли считать принцип самосохранения живого организма и принцип приспособления его к условиям то среди, в которой ему приходится жить. Стремление к сохранению жизни своей и своего рода и стремление к возможно более полному и безболезненному приспособлению к среде — являются главными движущими силами всего органического развития. В полном согласии с этим предпосылками традиционной биологии, — Фрейд в свое время выдвинул положение о двух принципах психической деятельности. Высшую тенденцию, которой подчиняются психические процессы, Фрейд назвал принципом удовольствия. Стремление к удовольствию и отвращение от неудовольствия, однако, не безраздельно и не
- 140. 140 исключительно направляют психическую жизнь. Необходимость приспособления вызывает потребность в точном осознании внешнего мира; этим вводится новый принцип душевной деятельности — принцип реальности, который диктует подчас отказ от удовольствия во имя «более надежного, хотя и отсроченного». Все это чрезвычайно элементарно, азбучно и, по-видимому, принадлежит к числу неопровержимых самоочевидных истин. Однако факты, добытые психоаналитическим исследованием, толкают мысль к выходу за узкие пределы этой самоочевидной истины. Попытка пробиться мыслью сквозь эту истину — по ту сторону принципа удовольствия — и создала настоящую книгу. Первоначальнее этого принципа, по мысли Фрейда следует считать, как это не парадоксально звучит, принцип влечения к смерти, который является основным, первоначальным и всеобщим принципом органической жизни. Следует различать два рода влечений. Один, как более доступный наблюдению, давно подвергся изучению — это эрос в широком смысле, сексуальное влечение, включающее в себя не только половое влечение, во всем его многообразии, но и весь инстинкт самосохранения; это — влечения к жизни. Другой род влечений, типическим примером которых следует считать садизм, может быть обозначен, как влечения к смерти. Задачей этого влечения является, как говорит Фрейд в другой книге, «возвращение всех живых организмов в безжизненное состояние», то есть его цель — «восстановить состояние, нарушенное возникновением жизни», вернуть жизнь к неорганическому существованию материи. При этом все положительные жизнеохранительные тенденции, как стремление к самосохранению и пр., рассматриваются, как частичные влечения, имеющие целью обеспечить организму его собственный путь к смерти и удалить все посторонние вероятности возвращения его в неорганическое состояние. Вся жизнь при этом раскрывается, как стремление к восстановлению нарушенного жизненного равновесия энергий, как окольные пути (Umwege) к смерти; как непрестанная борьба и компромисс двух непримиримых и противоположных влечений. Такое построение вызывает естественное сопротивление против себя по двум мотивам. Во-первых, сам Фрейд отмечает отличие этой работы от других его построений. То были прямые и точные переводы фактических наблюдений на язык теории. Здесь часто место наблюдения заступает размышление; умозрительное рассуждение заменяет недостаточный фактический материал. Поэтому легко может показаться, что мы имеет здесь дело не с научно-достоверными конструкциями, а с метафизической спекуляцией. Легко поэтому провести знак равенства между тем, что сам Фрейд называет метапсихологической точкой зрения, и точкой зрения метафизической. Второе возражение напрашивается само собой у всякого по существу против самого содержания этих идей. Является подозрение, не проникнуты ли они психологией безнадежного пессимизма, не пытается ли автор под маской биологического принципа провести контрабандою упадочную
- 141. 141 философию нирваны и смерти. Объявить целью всякой жизни смерть — не означает ли заложить динамит под самые основы научно биологии — этого знания о жизни? Оба эти возражения заставляют крайне осторожно отнестись к настоящей работе, а некоторый приводят даже к той мысли, что в системе научного психоанализа ей нет места и что надо обойтись без нее при построении рефлексологического фрейдизма. Однако, внимательному читателя нетрудно убедиться в том, что оба эти возражения несправедливы и не способны выдержать легчайшего прикосновения критической мысли. Сам Фрейд указывает на бесконечную сложность и темноту исследуемых вопросов. Он называет область своего учения уравнением с двумя неизвестными или потемками, куда не проникал ни один луч гипотезы. Научные средства его совершенно исключают всякое обвинение в метафизичности его спекуляции. Это — спекуляция, совершенно верно, но научная. Это — метапсихология, но не метафизика. Здесь сделан шаг за границы опытного знания, но не в сверхопытное и сверхчувственное, а только в недостаточно еще изученное и освещенное. Речь идет все время не о непознаваемом, но только о непознанном. Фрейд сам говорит, что он стремится только к трезвым результатам. Он охотно заменил бы образных язык психологии на физиологические и химические термины, если бы это не означало отказа от всякого описания изучаемых явлений. Биологи — царство неограниченных возможностей, и сам автор готов допустить, что его построения могут оказаться опровергнутыми. Означает ли это, что неуверенность автора в своих собственных построениях лишает их научной значимости и ценности? Ни в какой мере. Сам автор говорит, что он в одинаковой мере и сам не убежден в истинности своих допущений и других не хочет склонять к вере в них. Он сам не знает, насколько он в них верит. Ему кажется, что здесь следует вовсе исключить «аффективный момент убеждения»: в этом вся суть. Это раскрывает истинную природу и научную цену выраженных здесь мыслей. Наука вовсе не состоит исключительно из готовых решений, найденных ответов, истинных пожеланий, достоверных законов и знаний. Она включает в себя в равной мере и поиски истины, процессы открытия, предположения, опыта и риска. Научная мысль тем и отличается от религиозной, что вовсе не требует непременной веры в себя. «Можно отдаться какому-либо течению мыслей», говорит Фрейд, «следовать за ними только из научного любопытства до самой его конечной точки». Сам Фрейд говорит, «что психоанализ старательно избегал того, чтобы стать системой». И если на этом пути нас ждут головокружительные мысли, то в этой спекуляции надо иметь только мужество безбоязненно следовать за ними, как по горным тропинкам в Альпах, рискуя ежеминутно сорваться в пропасть. «Nur fьr schwindelfreie» — «только для не боящихся головокружений», по прекрасному выражению Льва Шестова, — открыты эти альпийские дороги в философии и науке. При таком положении, когда автор сам готов всякую минуту свернуть в сторону со своего пути и сам первый усумниться в истине своих мыслей, —
- 142. 142 не может быть речи, разумеется само собой, и о философии смерти, якобы пропитывающей эту книгу. В ней, вообще, нет никакой философии; она вся исходит из точного знания и обращена к точному знанию, но она делает огромный, головокружительный прыжок с крайней точки твердо установленных наукой фактов в неисследованную область по ту сторону очевидности. Но не следует забывать, что психоанализ, вообще, имеет своей задачей пробиться по ту сторону видимого, и в некотором смысле всякое научное знание заключается не в констатировании очевидности, но в раскрытии за этой очевидностью более действительных и более реальных, чем сама очевидность, фактов, и открытие Галилея точно так же уводят нас по ту сторону очевидности, как и открытия психоанализа. Некоторое недоразумение может произойти от того разве, что употребляемые автором психологические термины несколько двусмысленны в применении к биологическим и химическим понятиям. Влечение, или стремление к смерти, приписываемое все органической материи, здесь может показаться легко с первого взгляда, действительно, отрыжкой пессимистической философии. Но это все проистекает из того, что до сих пор психология всегда заимствовало у биологии основные понятия, объяснительные принципы и гипотезы и распространяла на психический мир то, что установлено было на более простом органическом материале. Здесь чуть ли не впервые биология одолжается у психологии. Надо ли после этого добавлять, что такие термины, как влечение, стремление и пр., утрачивают при этом весь свой первоначальный характер психических сил и означают только общие тенденции органической клетки вне всякой зависимости от философской расценки жизни и смерти в плане человеческого разума. Эти влечения Фрейд сводит, без остатка, на химические и физиологические процессы в живой клетке и обозначает ими только направления, в котором происходит энергетическое уравновешивание. Ценность и достоинство всякой научной гипотезы измеряется ее практической выгодностью, тем, насколько она помогает продвигаться вперед служа рабочим объяснительным принципом. И в этом смысле лучшим свидетельством научной полноценности этой гипотезы о первоначальности Todestrieb является позднейшее развитие тех же мыслей в книге Фрейда «Das Ich und das Es» («Я и Оно»), где психологическое учение о сложной структуре личности, об амбивалентности, об инстинкте разрушения и пр. поставлены в прямую связь с мыслями, развитыми в предлагаемой книге. Но еще большие возможности сулит смелая гипотеза Фрейда для общебиологических выводов. Она расстается нацело и окончательно со всякой телеологией в области психики и биологии. Всякое влечение причинно обусловлено предшествующим состоянием, которое оно стремится восстановить. Всякое влечение имеет консервативный характер, оно влечет назад, а не вперед. Таким образом перебрасывается мост (гипотетический мост) от учения о происхождении и развитии органической жизни к наукам о неорганической материи. Органическое впервые в этой гипотезе вводится так тесно в общий контекст мира.
- 143. 143 Фрейд готов допустить, что «в каждом кусочке живой субстанции», в каждой клетке действуют оба рода влечений, смешанные в неравной дозе. И только соединение простейших одноклеточных организмов в многоклеточные живые существа дает возможность «нейтрализовать влечение к смерти отдельной клеточки и... отвлечь разрушительные побуждения на внешний мир». Из этой мысли раскрываются огромные возможности для учения о социальной сублимации этих влечений к смерти. «Многоклеточный» социальный организм создает грандиозные, неисчислимые возможности для нейтрализования влечений к смерти и сублимации их, то есть превращения в творческие импульсу социального человека. По всем этим высказанным здесь соображениям мы полагаем, что новая книга Фрейда будет встречена и в научных кругах, и широким читателем с тем вниманием и интересом, на какие ей дают право ее необычайная смелость и оригинальность мысли. Интерес этот не стоит ни в какой зависимости от того, насколько положение, высказанные в книге, получат оправдание и фактическое подтверждение в ходе дальнейших исследований и критической проверки. Уже самое открытие новой Америки — страны по ту сторону принципа удовольствия — составляет Колумбову заслугу Фрейда, хотя бы ему и не удалось составить точную географическую карту новой земли и колонизовать ее. Искания истины, в конце концов, увлекательнее, поучительнее, плодотворнее и нужнее, чем найденная и готовая истина. II Еще до выхода русского перевода этой книги в русских научных кругах началась оживленная дискуссия по задетым в ней вопросам. Высказывали мнение, что Фрейд отступил в ней от своих исходных положений, что он вступил здесь на путь, далеко не совпадающий с путем современного материализма. Нам кажется — более глубокий подход к этой книги не оправдает этих подозрений. В «Jenseits des Lustprinzips» Фрейд развивает глубже и шире мысли, уже давно положенные им в основу психоанализа, он только вводит нас в лабораторию своей мысли. Ведь в этой книге, в сущности, все логически вытекает из мыслей, изложенных Фрейдом уже раньше, и однако, как ново, как подчас странно и оригинально звучат для нас страницы этой книги. Автор не настаивает в ней на абсолютной правильности своих построений: он еще сам не уверен в них и, давая волю своим построениям, он хочет лишь сделать широкие биологические выводы из изученных им прежде фактов психической жизни. К чему же они ведут нас? Какие общеметодологические тенденции скрыты под этими, подчас непонятными нам построениями?
- 144. 144 В основе всех построений этой книги лежит одна тенденция: построить общую биологию психической жизни. Те психические принципы, которые, по мнению психоанализа, регулируют все поведение человека — например, «принцип удовольствия» — не удовлетворяет Фрейда всецело: он ищет более глубокую, более общезначимую биологическую закономерность и находит ее в общем принципе сохранения равновесия — общем тяготении к сохранению равно разлитого напряжения энергии, которое мы замечаем в неорганическом мире. Стабильность и возврат к неорганическому — вот основные тенденции чистой биологии, отзвуки которой мы находим в глубинах человеческой психики («навязчивое воспроизведение прежних состояний»). Эти странные процессы психической жизни не являются, однако, особыми качествами «духа» — они говорят нам лишь о существовании более широких законов, охватывающих как деятельность психики, так и более фундаментальные биологические процессы. Психика вводится здесь в круг обще-биологических явлений; в ней отражается та же тенденция, которая играет свою роль и в мире неорганическом. Так чуждо звучащее для нас понятие «влечения к смерти» (Todestrieb) мы должны понимать лишь, как констатирование отзвука более глубоких закономерностей биологического порядка, как попытку отойти от чисто психологического понятия «влечения», вскрыть в нем его глубоко биологическую сторону. От чисто-психологического подхода к принципам психической жизни и влечениям — к биологическому подходу к ним — вот путь этой книги, углубляющей прежние построения Фрейда. Однако, если в глубоких слоях психической жизни скрыта биологическая консервативность тенденции сохранения неорганического равновесия, — чем же объяснить развитие человечества от низших форм к высшим? Где искать корень бурно развивающегося исторического процесса? Фрейд дает нам на это в высокой степени интересный и глубоко-материалистический ответ: если в человеке в глубинах его психики еще остались консервативные тенденции древней биологии — если в конечном счете к ним сводим даже эрос — то единственными силами, выводящими нас из состояния биологической консервативности, понуждающими к прогрессу, к деятельности — являются внешние силы — мы скажем — внешние условия материальной среды, в которой существует индивид. Именно они являются настоящей основой прогресса, именно они и формируют реальную личность, заставляя ее приспособляться к себе, вырабатывать новые формы психической жизни, наконец, именно они оттесняют вглубь и переделывают остатки старой консервативной биологии. В этом отношении психология Фрейда по своим тенденциям насквозь социологична, и лишь задачей других психологов-материалистов, находящихся в лучших условиях, чем Фрейд, остается раскрыть и до конца аргументировать материалистические основы этого учения. Итак, история человеческой психики складывается по Фрейду из двух тенденций: консервативной — биологической и прогрессивной —
- 145. 145 социологической. Именно из этих моментов складывается вся диалектика организма, и именно они ведут к своеобразному «спиральному» развитию человека. Эта книга — шаг вперед, а не назад по пути к построению цельной монистической системы, и диалектик, прочитавший эту книгу, поймет, какие огромные возможности монистического понимания мира вытекают из нее. Вовсе не надо быть согласным с каждым из многочисленных утверждений Фрейда, вовсе не нужно разделять все его гипотезы, важно лишь суметь за частными (быть может, и различными по ценности) построениями вскрыть одну общую тенденцию и суметь использовать ее для целей материалистического объяснения мира. Одно здесь сделано безусловно: психика окончательно потеряла здесь свою мистическую специфичность, в ней вскрыты те общебиологические законы, которые господствуют во все мире, она окончательно развенчана, как носительница некоей «высшей» сущности: «мы можем исправить много наших ошибок, когда мы заместим наши психологические термины — физиологическими и химическими». Буржуазная наука рождает материализм; роды эти часто бывают тяжелыми и затяжными; но — надо только найти, где зреет в ее недрах материализм — найти, чтобы охранить и использовать эти ростки. З. Фрейд. «По ту сторону принципа удовольствия». М., 1925, с. 3–16
- 146. 146 Вступительная статья к книге З. Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» М. В. Вульф На читателя, незнакомого близко с идеями Фрейда, предлагаемая книга может произвести впечатление какого-то перелома в научном творчестве его. Может показаться, что она резко отличается от прежних работ этого оригинального мыслителя и исследователя человеческой психики и является отказом от точной научной мысли врача-естествоиспытателя, уклоном в сторону чистой спекуляции. Такого рода мнения уже высказываются; говорят, что существуют теперь два Фрейда: прежний — осторожный исследователь в области точной научной мысли, и новый, автор «Jenseits des Lustprinzips» — с определенным метафизическим и даже мистическим уклоном. Для всякого, изучавшего психоанализ и весь ход развития идей и теорий Фрейда, совершенно очевидно, что такой взгляд ошибочен в корне. Никакого «перелома» или «уклона» в «Jenseits» нет. В этой книге изложено только дальнейшее вполне последовательное развитие проблем, поставленных уже в предыдущих работах. Мы находим в ней того же старого Фрейда, со всеми особенностями его мыслей и стиля, но только не останавливающегося перед широкими обобщениями и выводами и вынужденного поэтому выйти за пределы своих прежних исследований в области психологии и коснуться вопросов биологии. Анализ психических переживаний больного и здорового индивида привел Фрейда к изучению первичных влечений человека, как первоисточника психических процессов. В предисловии к четвертому изданию своих «Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie» Фрейд называет эту работу по теории полового влечения «граничащей с биологией частью учения». Действительно, учение о влечениях относится, в сущности, к области биологии. К сожалению, психоанализ мог слишком мало позаимствовать по этому вопросу у этой молодой еще научной дисциплины и в этой части своих исследований был предоставлен собственным силам. Первый подход Фрейда к вопросу о влечениях был чисто физиологический1 . Во влечении он видел раньше всего проявление особого вида раздражения (Reiz), исходящего не из окружающей внешней среды, а из внутренних физико-химических процессов организма, например, голод, жажда, половое влечение. Внешние физиологически раздражения действуют, как мгновенный толчок (или ряд быстро повторяющихся толчков) и влекут за со- бой рефлекторные моторные движения, двигательный рефлекс, благодаря которому раздражаемый объект удаляется из сферы действия раздражителя. Раздражение влечений — постоянная сила, длительно и беспрерывно 1 Влечения и их судьбы. — Третий том Психоаналитической библиотеки под ред. проф. Ермакова. Пер. д-ра Вульфа.
- 147. 147 нарастающая. Они становятся импульсом к целесообразным сложным действиям, приводящим к адекватному удовлетворению путем специфического изменения или влияния на источник этого внутреннего раздражения. «Внешние раздражения выдвигают задачу избавиться от них, а это совершается по средствам мускульных движений, из которых одно, в конце концов, достигает цели, и как целесообразное, становится наследственным предрасположением. Возникающие внутри организма раздражения влечений не могут быть устранены при помощи такого механизма. Они предъявляют к нервной системе гораздо более высокие требования, побуждают ее к сложным последовательным действиям, настолько изменяющим внешний мир, что он делает возможным удовлетворение внутренних источников раздражения; но, главным образом, они заставляют нервную систему отказаться от своей главной цели — устранение всяких раздражений, так как неизбежно поддерживают беспрерывных приток их. Мы имеем поэтому основание заключить, что именно они, влечения, а не внешние раздражения, являются настоящими двигателя прогресса, который довел до современной высоты развития столь бесконечно работоспособную нервную систему. Разумеется, ничто не мешает полагать, что сами влечения, по крайней мере отчасти, представляют из себя осадки влияния внешних раздражений, которые в ходе филогенетического развития вызвали изменения в живом веществе» 1 . Последняя оговорка Фрейдa очень знаменательна. Она указывает на некоторое самомнение в окончательной правильности этого описательного определения влечения. От него, очевидно, не укрывалось вытекающее из такого понимания влечений противоречие с его общим, в основе своей материалистическим пониманием жизненных явлений. Действительно, мысль, что влечения, как проявления внутренних раздражений, являются «настоящими двигателями прогресса», при последовательном проведении приводит к витализму. Понятен поэтому осторожный подход Фрейдa, который в начале этой работы говорит о влечении, как об «условном, пока еще довольно темном, но в психологии незаменимом основном понятии». Нет ничего удивительного также и в том, что в последующих трудах он старается совершенно по-иному подойти к вопросу о сущности влечения, хотя для этого ему пришлось выйти за пределы изучаемой им области психических явлений и углубиться в проблемы биологии. Но этому способствовали еще другие мотивы, вытекающие отчасти непосредственно из новых наблюдений, отчасти продиктованные известными уже прежде фактами, получившими лишь новую оценку и значение в связи с новыми открытыми явлениями. С биологической точки зрения влечение приходится понимать, как процесс, «стоящий на границе между психическим и соматическим, психическим представителем раздражений, исходящих из внутренностей 1 Там же, с. 106
- 148. 148 тела и проникающим в психику"1 . Действие влечения на психику состоит в том, что под его влиянием в психическом аппарате создается состояние напряжения, субъективно воспринимаемого, как отрицательное неприятное ощущение (Unlust). Удовлетворение же влечения сопровождается чувством наслаждения, удовольствия (Lust). «Если мы далее находим, что и дея- тельность самых высоких по своему развитию душевных аппаратов также подчиняется принципу наслаждения (Lustprinzip), то есть автоматически регулируется ощущениями наслаждения и неудовольствия, то мы с трудом сможем отказаться от дальнейшего предположения, что эти ощущения отражают именно тот способ, по средствам которого происходит преодоление раздражения. Это нужно понимать, несомненно, в том смысле, что неприятные ощущения связаны с повышением раздражения, а приятные ощущения наслаждения — с понижением его» 2 . Именно в этом пункте раскрылись слабые стороны вышеизложенного физиологического описания влечений. Раньше всего это проявилось благодаря наблюдениям над «военными» или травматическими неврозами, порожденными в большом количестве мировой войной. Установленные эти наблюдениями факты из психической жизни и болезни «травматиков» трудно согласовались с положением о господстве принципа наслаждения в психической жизни, как регулятора ее. Оказалось, что такие больные в бодрствующем состоянии с трудом и весьма недостаточно помнят события и обстоятельства, при которых они пережили травму, между тем как сновидения их часто воспроизводят во время сна именно эти переживания. Этот факт находится в резком противоречии с установленным в «Traumdeutung» общим положением, что сновидения осуществляют вытесненные желания, создавая ситуацию, при которой переживаются удовлетворение их. Но именно в этом осуществлении желаний и проявляется влияние принципа наслаждения на психическую жизнь во время сна, следовательно, в этом пункте психология травматических неврозов не только не подчиняется этому принципу, но вполне определенно противоречит ему. Другое наблюдение, относящееся к этому же разряду явлений, можно сделать над маленькими детьми. Последние часто в играх своих воспроизводят как раз наиболее мучительные и тяжелые для них переживания, требуют повторения страшных сказок, пугающих описаний и событий и т.п. Они не только не проявляют стремления избежать переживания неудовольствия, неприятного (Unlust), а не редко наоборот, играя, как бы ищут их. Наконец, третья группа явлений этой же категории, известная уже давно, хотя и не получившая до сих пор соответствующей оценки, относится к наблюдениям над больными во время психоаналитического лечения. В процессе лечения, анализируемые с навязчивой настойчивостью и 1 Там же, с. 107 2 Там же, с.106
- 149. 149 постоянством воспроизводят как раз наиболее тяжелые травматические переживания прошлого. Все эти факты и наблюдения навели Фрейдa на мысль, что наряду с принципом наслаждения, которому обычно подчинено течение психических процессов, имеется еще другой регулятор их, может быть, более примитивный и первичный, который проявляется в этом стремлении к возвращению к этим мучительным переживаниям. Анализ их выяснил дальше, что таким путем травматизированная психика стремится изжить, преодолеть непосильную для нее травму, как бы усваивая ее, «привыкая» к ней по средствам повторного ее воспроизведения. Это — как бы изживание и усвоение в фракционированных малых дозах того потрясения, которое не под сил было одолеть сразу, в один прием. В этом явлении Фрейд увидел основной примитивный механизм, лежащий в основе психический процессов «по ту сторону принципа удовольствия» и назвал его навязчивым стремлением к воспроизведению (Wiederholungszwang). Оно представляет собой своеобразную реакцию на раздражения, переходящие по своей интенсивности определенную границу, приемлемую для психического аппарата и потому становящиеся травматическими. Но тут возникает вопрос: что понимает Фрейд под термином «одолеть раздражения»? В упомянутой уже выше статье1 он говорит: «Нервная система представляет собою аппарат, на который возложена функция устранять доходящие до него раздражения, низводить их по возможности до самого низкого уровня, или же, если бы это только оказалось осуществимым, этот аппарат стремится к тому, чтобы вообще избегать каких-либо раздражений. Пусть нас пока не смущает неопределенность этой идеи; и припишем нервной системе, вообще говоря, назначение: справляться с раздражениями». С этой точки зрения Фрейд определяет наслаждения (Lust), как выражение освобождения, оттока раздражений из организма и неудовольствие (Unlust), как выражение, наоборот, невозможности оттока (Abfuhr) и накопление избытка раздражений в организме, или вернее, в элементах нервно- психического аппарата. Однако эта, несколько упрощенная формула принципа психической деятельности в действительности испытывает значительное изменение и усложнение. Еще в «Studien ьber Hysterie»2 , первой работе Фрейдa в области психопатологии, сделанной совместно с Брейером — последний высказал интересный взгляд о так наз. «интрацеребральном тоническом возбуждении». «В состоянии сна, сопровождающемся сновидениями, нам известно, что в нем у нас возникают намерения производить произвольные движения, говорить, ходить и т.п., между тем, как соответствующие сокращения мускулатуры нами в действительности не производятся — что чувствительные раздражения, быть может, перципируются (так как они часто 1 Там же, с. 106 2 С. 168
- 150. 150 проникают в сновидения), но не апперципируются, то есть не становятся сознательными восприятиями, что возникающие представления возбуждают, не как в бодрствующем состоянии, все связанные с ними, имеющиеся в потенциальном сознании представления, а что большие массы их не возбуждаются или (как это бывает, когда мы говорим во сне с покойником не вспоминая о его смерти), что не соединимые представления могут существовать одновременно, не парализуя друг друга, как в бодрственном состоянии, что, следовательно, ассоциации возникают недостаточно и неполно. Мы должны допустить, что в самом глубоком сне это уничтожение связи между психическими элементами еще более совершенно и полно. В бодрствующем состоянии, напротив, всякий волевой акт вызывает соответствующее движение, чувствительные впечатления становятся восприятиями, представления ассоциируются со всем содержимым потенциального сознания. Мозг представляет собой в таком случае единство, работающее в полной внутренней связи. Быть может, мы опишем только другими словами те же факты, если скажем, что во время сна пути соединения и проводящие раздражения в мозгу непроходимы для возбуждения психических элементов (корковых клеток?), а в состоянии бодрствования вполне проходимы. Существование обоих этих различных состояний проводящих путей понятно только, если предположить, что во время бодрствования они находятся в состоянии тонического возбуждения (интрацелулярный тетанус Экснерa), что это тоническое интрацеребральное (внутримозговое) возбуждение обусловливает их проводящую способность, и что понижение или исчезновение последней и приводит к состоянию сна». «Если бодрствующий мозг остается продолжительное время в покое, не превращая благодаря функционированию сил напряжения в живую энергию, то наступает потребность и импульс к действию. Длительное моторное спокойствие создает потребность в движении (бесцельная беготня зверей в клетке) и мучительное чувство, если эта потребность не удовлетворяется. Недостаточное количество чувственных раздражений, темнота, мертвая тишина становятся мучительными, психическое спокойствие, недостаточное количество восприятии, представлений, ассоциативной деятельности вызы- вают мучительную скуку. Эти неприятные чувства соответствуют «возбуждению», повышению нормального интрацеребрального возбуждения. Вполне восстановленные элементы мозга освобождают таким образом и в спокойном состоянии известное количество энергии, которое, не будучи использовано для функциональной работы, повышает интрацеребральное возбуждение. Это вызывает неприятные чувства. Последние возникают всегда в тех случаях, когда какая-нибудь потребность организма не находит удовлетворения. Так как неприятные чувства, о которых здесь идет речь, исчезают, когда освободившееся избыточное количество возбуждения находит функциональное применение, то мы делаем вывод, что такое устранение избытка возбуждения является потребностью организма, и тут впервые встречаемся с фактом, что в организме существует тенденция к
- 151. 151 сохранению постоянства (Konstanzerhaltung) интрацеребрального возбуждения»1 . Дальнейшее развитие эта энергетическая или экономическая точка зрения получила в «Traumdeutung». Уже из изложенного в «Studien» видно, что в нервно-психическом аппарате приходится различать два вида накопления возбуждений или «психической энергии» «свободной», то есть способной легко истрачиваться в функции, оттекать, — и «связанной», как бы ассимилированной, переработанной в виде определенного тонуса. Последняя повышает работоспособность «запас сил» всего аппарата. «Свободная» энергия возбуждений характеризует «первичные процессы «Primдrvorgang», которые составляют особенность примитивной психики, бессознательного. Высокий тонус интрацеребрального напряжения и большое количество «связанной» энергии раздражений — особенность сознания и высоко организованного нервно-психического аппарата. Отсюда следует, что чем больше количество связанной энергии возбуждения в элементах нервного аппарата, тем легче он может справиться с новыми сильными раздражениями, и, наоборот, чем меньше это количество, тем менее способной окажется вся система сопротивляться внешним раздражениям. При большом количестве связанной энергии, в ответ на травматизирующее потрясение мобилизируется запас психической энергии из всего нервно-психического аппарата и противопоставляется (Gegenbesetzung) этому потрясению. Примером такого травмитизирующего переживания может служить сильный испуг. Как реагирует на него психика, в которой много свободной энергии, ищущей выхода, и преобладают «первичные процессы»? (Например, дети, дикари и т.п.). Они поддаются панике, «теряются», совершают самые нецелесообразные реакции, вплоть до полного паралича и потери сознания. Наоборот, люди, «умеющие владеть собой», то есть располагающие большим количеством связанной энергии проявят наиболее целесообразные и полезные реакции. Психологически это выражается в психической установке личности по отношению к травматическому переживанию — установке, которая выражается в подготовленности психики к этому переживанию. Неожиданность действия травмы и ее внезапность является сильным травматизирующим моментом. Наоборот, подготовленность, ожидание несчастья часто защищает от тяжелый последствий потрясения. Впечатли- тельных, легко волнующийся (то есть располагающих большим запасом свободной энергии раздражений) людей стараются «подготовить» к ожидающему их несчастью, предупредить, чтобы ослабить действие травмы. Другим психологическим моментом является то, насколько личность вообще более или менее охотно, подготовленно идет навстречу лишениям, страданиям, переживаниям, с которым связано возможность травматического потрясения, насколько она готова на жертвы и самопожертвования. Другими словами — насколько личность организованна и «связала» с определенными 1 «Studien ьber Hysterie», Franz Deuticke, 171 с.
- 152. 152 представлениями и идеями известное количество психической энергии возбуждения в элементах нервного аппарата и благодаря этому приобрела устойчивость и силу сопротивления. В этом психофизиологическая сущность героической установки личности. Опыт войны показал, насколько тяжелы потрясения боя и все лишения военного похода для лиц, идущий на войну нехотя, против воли, из-под палки в сравнении с тем, кого воодушевляет какая-нибудь идея и готовность пожертвовать собой ради нее. Эту трудную работу организации своей психики и проделывают отчасти травматики в своих снах, невротики, воспроизводя в лечении, и дети, воспроизводя в играх свои мучительные, травматизирующие переживания. Таким путем они стараются «усвоить» их в ослабленном виде и в наиболее выгодной ситуации подготовленности и этим ослабить их удар и «принять» их, или выражаясь техническим языком психоанализа, «связать» свободную энергию потрясающих раздражений и частично превратить ее в «связанную». Воспроизведение мучительных переживаний становится благодаря этому средством самозащиты нервно-психической организации против травматизирующего потрясения, несмотря на то, что оно резко противоречит тому основному принципу наслаждения, которому при нормальных условиях у взрослого подчинена деятельность нервно- психического аппарата. Из этого Фрейд делает вывод, что торжество принципа наслаждения, как регулирующего момента психических процессов, возможно только тогда, когда нервно-психическая организация достигала уже довольно высокого развития и располагает некоторым запасом связанной энергии возбуждения. Поэтому он и говорит о навязчивом воспроизведении по ту сторону (то есть еще до организации) принципа наслаждения. Только после того как произошел переход психической энергии возбуждения в связанную, может без задержек установиться господство принципа наслаждения (и его моди- фикации в виде реальности) (Teuseits, 33 с.). В каком же отношении ко всему этому находятся первичные влечения. Они, как известно, являются «представителями» всех влияний, исходящих изнутри организма и переносящихся на психический аппарат. Эти раздражения действуют непосредственно на систему Ubw и только оттуда, пройдя цензуру личности (ее Я — идеала), могут проникнуть в прямом или измененном виде в систему Bw. Исходящие из влечений раздражения протекают «по типу несвязанного, а свободного и подвижного, стремящегося к оттоку первичного процесса», доминирующего в Ubw. Но теперь мы уже знаем, что этот тип течения нервно-психического процесса, который, дос- тигнув известного напряжения и силы, имеет тенденцию изживаться «с непреодолимой, демонической силой», независимо от принципа наслаждения, подчиняясь стремлению к навязчивому воспроизведению. «Это наводит на мысль, что мы тут открыли общую до сих пор недостаточно понятую — или по крайней мере не вполне подчеркнутую — особенность влечений, может быть, вообще всей органической жизни. Влечение представляет собой свойственное живом органическому существу
- 153. 153 стремление к воспроизведению прежнего состояния. из которого оно должно было выйти под воздействием внешних нарушающих сил». Обычным чисто-психологическим путем Фрейд пришел здесь к новому, чрезвычайно широкому пониманию влечения, являющемуся огромным шагом вперед по сравнению с прежним чисто физиологическим. Если видеть в влечениях первичные импульсы жизненных реакций живых организмов, возникшие с зарождением органической жизни и руководившие филогенетическим развитием ее, то как допустить, что эти импульсы проявляются в виде господства чисто психологического момента — принципа удовольствия (Lustprinzip)? Можем ли мы таки образом приписать влиянию этого принципа или чего-то с ним сходного, жизненные реакции примитивнейших организаций живой субстанции? А раз так, то принцип наслаждения не может быть первичным проявлением влечений, а продуктом более высокого развития и совершенно организации. В более же примитивных организмах должен действовать какой-то другой принцип проявления влечений. Его-то Фрейд и открыл в навязчивом стремлении к воспроизведению. Во-вторых, в этом новом определении влечения имеется один важный момент: оно подчеркивает консервативный характер его, видит в нем выражение инертности живой материи и противопоставляет ее прогрессивном влиянию внешних раздражений. Таки образом центр тяжести развития и прогресса жизни переносится на внешний мир, на среду, как на источник всяких изменений в органической жизни. Не живая материя сама по себе развивается и творит жизнь в силу каких-то тайных, присущих ей имманентных творческих сил — как это вытекало из первоначального чисто- физиологического понимания влечения, — а внешние условия, среда и исходящие из нее раздражения выводят материю из ее инертности и толкают на путь развития и прогресса. Сама же материя стремится сохранить свою инертность, вернуться к покою, оказывает сопротивление раздражающим и толкающим вперед силам внешней среды. Тут нет места витализму, как объяснению развития жизни. В этом — как это явствует из самого заглавия — главная идея предлагаемой книги и научно (психологически) обоснованная часть ее. Остальное — дальнейшие и отдаленнейшие, но далеко не обязательные выводы из этого основного понимания сущности влечения, более или менее смелые логичные построение научной мысли, принятие или отрицание которых (как это говорит сам Фрейд) обусловливается чисто субъективными моментами у автора и у читателя. Инертность, абсолютный покой, есть, в конечном счете, смерть органической жизни, царствование органического мира. Отсюда вывод, что влечения, в конечном счете, стремятся привести органическую жизнь к смерти, что они представляют из себя влечения смерти (Todestriebe). Этот вывод побуждает Фрейдa перейти к рассмотрению вопроса о том, что представляет из себя смерть в биологическом смысле, как биологический процесс. Он совершает экскурсию в область биологии и здесь находит в общем подтверждение своего взгляда. Действительно, смерть не
- 154. 154 случайное явление в процессе развития жизни, а необходимое завершение жизненного процесса, наступающее вследствие действующих в организме внутренних импульсов, то есть влечений. Сами процессы жизни приводят организм к неизбежной естественной смерти. Но откуда же в таком случае берется в организме стремление к поддержанию жизни, что побуждает его творить ее? Источники жизни Фрейд на основании данных современной биологии открывает в сексуальных влечениях, поддерживающих жизнь благодаря тому, что толкают организмы на слияние, соединение (copulatio). Таким путем вводится в организм из вне новые источники раздражения, поддерживающих и возобновляющих новые силы его. Этим влечениям приходится приписать творческую силу жизни. Здесь Фрейд в современной биологии получает новое подтверждение своих прежних взглядов о творческой роли либидо в области развития и течения психических процессов (вытеснение, сублимация, компенсация и т.д.). Но тут возникает необходимость пересмотреть прежнюю классификацию влечений в связи в этими новыми взглядами. С самого начала своих научных исследований Фрейд всегда придерживался, как он говорит, дуалистического1 взгляда на природу влечений, то есть он всегда разделял их на две группы, допуская (как и Эрлих), что в основе этих группировок лежат различные химизмы обусловливающих их внутренних раздражений. Он строго отделял «влечения Я» от сексуальных влечений, исходя при этом, с одной стороны, из данных психопатологии психоневрозов, а с другой стороны, ссылаясь на об- щепринятую в биологии такую же классификацию. В связи с вновь установленными влечениями смерти возник вопрос о противоположных им влечениях к самосохранению. Сначала предполагалось, что они составляют часть «влечений Я». Но в дальнейшем Фрейд вынужден был приписать им либидонозный характер (см. Zur Einfьhrung des Narzismus)2 и отнести преимущественно к группе сексуальных влечений в широком смысле. Влечения же Я оставались до сих пор почти недоступными психоаналитическому исследованию — что имело свою глубокую причину в механизме действующих при психоаналитическом методе исследования психических сил (перенесения). Здесь Фрейд высказывает предположение (подчеркивая его гипотетичность), не являются ли эти «влечения Я», враждебные по существу, окружающему миру, отражением первичных, действующих в организме влечений смерти, проецированных во внешний мир. Они-то — носители импульсов ненависти, разрушения, сокру- шительных, садистических влечений (Destruktion), действия которых мы так часто можем наблюдать даже в творческих процесса жизненной борьбы. Процессы разрушения и созидания протекают параллельно и рука об руку во всех проявлениях жизни, начиная с импульсов, действующих в кусочке протоплазмы первичной клетки и кончая высшим творчеством человеческой мысли — и всюду и во всем проявляется борьба тех же сил — 1 В противоположность, например, Юнгу, который во всех явлениях жизни видит только проявление либидо. 2 См.: «Очерки по психологии сексуальности», VIII выпуск психоаналитической библиотеки, глава «О нарцизме».
- 155. 155 влечений смерти (садистических, разрушения уже бывшего) и влечений (сексуальных, эроса) жизненных, творчества нового. Москва, 22 марта 1925 г. Фрейд З. «По ту сторону принципа удовольствия». М., 1925, с. 17–33
- 156. 156 К критике современного применения психоаналитического метода лечения В. М. Гаккебуш Тема настоящей моей небольшой статьи, быть может, несколько неожиданна и, я знаю, вызовет немало нареканий и даже возможно, возмущений по моему адресу. Но это не должно, конечно,. служить препятствием к ее опубликованию. Прошедшая раньше заграницей, а затем и у нас полоса поминок; Шарко заставила пересмотреть и вспомнить все, связанное с именем этого великого человека. А это значит — историю психоневрологии за последнюю половину ХIХ века. Мне было поручено в день торжественного заседания Киевского общества психиатров и невропатологов, посвященного памяти Шарко, доложить о заслугах Шарко в области учения о функциональных заболеваниях нервной системы. Естественно, пришлось оживить в памяти всю састную борьбу, которая велась в течение многих лет между парижской и нансийской школами по вопросу о гипнотизме и внушения. Шарко, как известно, был побежден. Истина, по-видимому, оказалась не вполне на его стороне, в противоположность тому, как это обычно бывало. Но сколько благородства, достоинства, сколько уважения к своим противникам! Невольно напрашивается параллель с современным нам направлением психоневрологической мысли — фрейдизмом. Какая разница во всем! Анализируя фрейдизм, особенно его крайнее «воинствующее» направление, представляемое «интернациональным психоаналитическим обществом», (я никогда не могу при упоминании об этой организаций отделаться от назойливого представления о масонских ложах1 . Многие критики справедливо рассматривают все фрейдовское движение, как характерный продукт упадочности современной европейской культуры. Изложение и углубление данной параллели представляет на наш взгляд большой интерес и должно составить предмет отдельного очерка. Сейчас моя тема много уже и скромнее. Мне хочется поделиться с товарищами рядом наблюдений относительно применения психоанализа, как лечебного метода. При чем тут Шарко? Я уже сказал, что, роясь в последней литературе, появившейся по случаю юбилея Шарко, я невольно подпал обаянию светлого образа великого невропатолога. Последний, воспитав ряд поколений 1 Интересное замечание по этому поводу находим у марксистского критика — проф. М. А. Рейснера, которого далеко нельзя причислить к «врагам« фрейдизма: «Психоанализ, — пишет Рейснер во вступительной статье цитируемой ниже книге Виттельса, — основанный на узах симпатии между врачом и пациентом, не в меньшей степени обладает «симпатическим« привкусом и для объединяемых им последователей и учеников. Сексуальность, как особое и напряженное внимание в сторону эротики, несомненно, отразилась известным образом и на самих психоаналитиках. А так как сексуальность есть ближайшая основа мистицизма и церковности, то и научная школа Фрейда, поскольку она стала, идеологическим фактором для гибнущей буржуазии, приобрела, благодаря своему, тяготению к эротике, некоторые черты подлинной церковности».
- 157. 157 крупнейших неврологов всего мира, не переставал напоминать своим ученикам основное правило практической медицины: ne nocere. Как дело обстоит в «Интернациональном психоаналитическом обществе»? Не будучи уверен в своем знании соответственной литературы, я обратился с данным вопросом к одному своему другу, большому поклоннику и последователю Фрейда. Получив от него указание на статью Фрейда «О «диком» психоанализе», я и просмотрел эту статью, бывшую впрочем и раньше мне известной. (См. Фрейд З., Методика техники психоанализа. Псих. и психоан. библиот. М., 1923, с. 45). Правда и в разных других местах Фрейд часто предостерегает от легкого отношения к психоанализу и отождествляет его с операцией, требующей такта и осторожности. Однако в указанной статье вы найдете больше очень полезных практических указаний об ошибке врача, угрожающей «опасностями» врачу-психоаналитику и психоанализу, о возможном же вреде для больного упоминается лишь вскользь, да и то с оговоркой. Проф. Фрейд тут же указывает, что именно ввиду возможности применения неправильной техники со стороны врачей, в 1910 г. основано упомянутое мной «Интернациональное психоаналитическое общество», публикующее списки своих членов. Столь небольшое внимание, уделяемое вопросу о возможности вреда от: лечения психоанализом меня несколько удивляет. Можно было бы подумать, что это объясняется слишком большим материалом, более важными вопросами, которые не успевает творец учения сообщить своим ученикам. Однако нет. Тут же в сборнике, где помещена статья «О “диком” психоанализе», вы находите и несколько статей практического характера, где преподаются такие подробности, как указание о том, сколько больных можно пропускать в день, поскольку времени надо тратить на больного, как надо ценить труд за лечение больного, даже имеется совет, что лучше плату брать не после окончания лечения и т.п. интересные подробности... А между тем, едва ли психоаналитики так-таки и не знают ни разочарования, ни успеха в «делах своих». Я знаю, они народ все чрезвычайно самоуверенный. Да как же и может быть иначе. Психоаналитик не ошибается. Конечно, не все больные получают помощь; этого никто из них не доказывает, но в этом виноваты только сами пациенты. Они нередко «сбегают». Ну, стоит ли о таких говорить? Я помню, у нас в гимназии был учитель немецкого языка. Такой почтенный, важный, самоуверенный немец. От него страшно пахло сигарой и нюхательным табаком. На новичков этот суровый немец с таким одуряющим запахом производил ужасное впечатление. Некоторые мальчики не переносили его и, так как каждый гимназист 1-го класса имел право изучать только один язык, немецкий или французский, то многие мальчики после одного, двух уроков бросали немецкий—им невыносим был «немец». А старик обычно, когда и классе ему объясняли отсутствие того или иного ученика тем, что он бросил язык, говорил, сердито нахмурив брови: «оставьте, дети, его — он дурак»! Этому умному старому немцу не приходило и в голову, что в это время «бросивший» язык мальчик где-нибудь, забившись в угол, проливает горькие
- 158. 158 слезы: ему жаль не учиться немецкому языку, но одно воспоминание о «немце» сего запахом приводит его в ужас... И я полагаю, что, если бы психоаналитики побольше задумывались над теми, кто у них не излечивается, не отмахивались бы от них, как от чего-то неприятного, а интересовались бы их дальнейшим состоянием, то вероятно им часто приходилось бы убеждаться в том, что «отказываются», «сбегают» не только «дураки», по терминологии старого немецкого учителя. Вот об этих «уходящих», а также и о тех, которых приходится побуждать во время «сбежать», я и считаю своей обязанностью поднять разговор. Мне кажется, и у многих товарищей найдется, что сказать по этому поводу. Не думаю, чтобы мне в этом отношении особенно посчастливилось, или, если угодно, не повезло. Считаю необходимым предварительно выяснить свое личное отношение к Фрейду, его учению и психоанализу, как терапевтическому методу. Было бы странно в настоящее время не признавать величайших заслуг Фрейда в учении о бессознательном, или не воздать ему должного в крайне интересных и, весьма часто, совершенно правильных взглядах на многие неврозы, их генез, этиологию, лечение. Я с большим удовольствием читаю его столь горячо и убедительно всегда написанные книги; преклоняюсь пред его острым умом,. эрудицией, образованностью, глубиной его обобщений, находчивостью, пред силой обаяния этого крупнейшего из наших современников, ставшего властителем дум современного нам общества эпохи «Заката Европы». Словом я готов вторить многим дифирамбам, возносимым в честь творца психоанализа его бесчисленными последователями, и понимающими его и его учение, и только делающими вид, что понимают его. Это нисколько не может заставить меня слепо, на веру, принимать все, что говорит Фрейд, только потому, что так «Magister dixit». Но, если бы мне приходилось сейчас выступать только по вопросу о психоанализе в применении самого Фрейда, я, конечно, молчал бы. Мне быть может, и нечего было бы сказать, а если б и нашлось, то это не имело бы, конечно, общественного значения. Совсем, однако, иначе дело обстоит, когда психоанализ стал столь моден и популярен, что не знать его, не интересоваться им и даже не заниматься им считается даже «как то неприлично». Спрос, естественно, порождает предложение. И, если вначале нам приходилось иметь дело с пациентами самого Фрейда и его ближайших учеников, то в последнее время психоанализом стали лечить очень и очень многие, не исключая и самих пациентов Фрейда, им излеченных и уверовавших в психоанализ. Я понимаю, конечно, что Фрейд не ответствен за это. Он и «Интернациональное психоаналитическое общество» организовал, думая в этом найти гарантию от «диких психоаналитиков». Намерение благое, но разве это гарантия? Действительность часто блестяще опровергает это. До резиденции «Интернационального психоаналитического общества» далеко, а соблазн велик. Вообще пора бы бросить эту нелепость, поддерживаемую учениками Фрейда, что называться аналитиком вправе всякий, кто состоит в числе членов «Интернационального психоаналитического общества». Для права лечить психоанализом нужны
- 159. 159 иные гарантии. И вот целый ряд попыток применения психоанализа приводит в результате, судя по моему материалу, к ухудшению здоровья, к тяжелому конфликту, требующему, уже после этого психотерапевтического вмешательства. Я по многим понятным, надеюсь, причинам, должен ограничиться лишь самыми общими сведениями о больных. Случай 1. Больной 24 лет, с резко отягощенной наследственностью, талантливый человек, начитанный, несколько поверхностный, синтоник, склонный к истерическим реакциям, резко проявляющимся под влиянием неблагоприятных внешних обстоятельств. С увлечением отдавшийся захватившей его работе, осуществлявшей его давнишние любимые мечты и удовлетворявшей его честолюбивые замыслы, он волею судеб перебрасывается на другую, работу, совсем его не интересующую, в новые места. Честно относясь к своим обязанностям и долгу, пациент упорно стремится приспособиться к новому положению, вовлечься в работу, но. это ему. не удается и пред нами картина истерического невроза с целым рядом анеров, обусловленных дегенеративным складом пациента. Бросаясь из стороны в сторону за помощью, начитанный о Фрейде и психоанализе, он попадает к психоаналитику, берущему его в «работу». Чуткий и впечатлительный, после нескольких сеансов он впадает в очень тяжелое состояние, сопровождающееся бессонницей, значительным возбуждением, припадками, мыслями о самоубийстве. Вмешательство близких больному людей приводит его ко мне. «Если человек такое низкое животное, стоит ли жить», говорит пациент, весь дрожа при воспоминании о тех попытках «расшифровки» его мыслей, его снов и действий, которые так прямолинейно и без всяких сомнений делал психоаналитик. Не видя никакой надобности в данном случае применять психоанализ, считая это даже вредным, я настоял на прекращении его и назначил ему лечение обычными психотерапевтическими средствами, постарался помочь пациенту в устранении условий, вызвавших у него реактивный невроз, и через некоторое время больной чувствовал себя вполне хорошо и приступил к работе. Случай 2. Больной, подросток, страдает страхом упасть на улице. Постепенно совсем перестает выходить один из дома. Ставится диагноз навязчивого невроза и больной берется в «работу» психоаналитиками. Длится эта «работа» очень долго, но больной не только не улучшается, но напротив делается, по словам отца, все хуже. Мое знакомство с мальчиком обнаружило в нем резко аутистичного шизотимика, астенического телосложения, с отягощенной наследственностью; при этом оказалось, что с детства он перенес осый полиомиелит, вследствие чего правая нога его несколько отстала в развитии от левой, некоторые мышцы голени слабы и атрофичны. Последнее обстоятельство не особенно резко бросается в глаза и легко может остаться незамеченным. Считая, что тут лежит корень его фобий, а не в сексуальном конфликте, который усиленно отыскивали психоаналитики, я и назначил ему психотерапевтическое лечение, состоявшее в медленном, постепенном
- 160. 160 отучении путем убеждения от боязни падения и укреплении движений. ноги. Успех не замедлил обнаружиться. Но данный случай особенно. интересен, по моему, тем, что «работа» психоаналитиков привела у данного пациента, при ясно выраженном его аутизме, к очень резкому ухудшению его отношения к внешнему миру. Возмущенный и не на шутку страдавший от предлагавшихся ему вопросов, он, стал все больше и больше «уходить» в себя, почти совсем порвал связи с окружающим миром, и я одно время очень опасался развития здесь шизофренического синдрома. Тем труднее было при назначении нового лечения добиться доверия пациента и разрушить уже начавшую уплотняться паутину вокруг него... Нужно ли еще приводить аналогичные случаи? Их у меня не мало. Тут, например, серия случаев начинающейся шизофрении, принимаемой, по- видимому, за истерию, где больные берутся в «работу» и значительно ухудшаются под влиянием последней. Я беру на себя смелость это утверждать, так как начинавшееся возбуждение, иногда даже отрывочные бредовые идеи, имевшие содержанием сюжеты психоаналитической «работы», проходили при прекращении ее и давали улучшение под влиянием соответствующей трактовки больных. Тут и случаи уже явно разворачивающейся шизофрении, где у более или менее образованного психиатра не должно быть сомнений в диагнозе. Правда, здесь особого ухудшения я не наблюдал, разве только вплетение в бред многих терминов, которыми оперируют психоаналитики. Тут и много случаев детских неврозов. Я еще раз хочу подчеркнуть, во избежание недоразумений, что я отнюдь не являюсь противником применения психоанализа с терапевтической целью. Наоборот, я нередко его назначаю. Но здесь необходима, как и вообще во всякой терапии, и строгая индивидуализация и правильное показание этого лечения и, наконец, уменье его проводить. К сожалению эти три условия в настоящее время огульного увлечения психоанализом, не всегда соблюдаются, результатом чего и является нередко немалый вред, наносимый доверчивым больным. А то вот еще весьма интересный случай, попавшийся мне совсем недавно. Больная, очень интеллигентная, образованная особа, 24-х лет, под влиянием сложной ситуации семенной обстановки нервничает. У нее возникло чувство к одному женатому человеку, усиленно за ней ухаживающему. Последний не может решиться на разрыв со своей женой из- за ребенка, к которому очень привязан. Пациентка требует окончательной развязки положения и категорического решения, с кем же он остается. Происходит разрыв, после которого у нее начинаются фобии и очень плохое настроение. Через три месяца они вновь сходятся. Больная продолжает себя плохо чувствовать. Ей дается совет лечиться психоанализом, так как у нее «конечно было что-то в детском возрасте, что она забыла»... Продолжать ли еще примеры? Мне кажется их довольно. Считаю нелишним привести тут несколько замечаний Виттельса в его недавно вышедшей книге. Автор в предисловии к ней говорит: «Благодаря
- 161. 161 тому что я нахожусь в отдалении (разошелся с Фрейдом), на меня не падает тень могучей личности. Я — не загипнотизированный, поддакивающий последователь, каких у Фрейда более чем достаточно, но критически мыслящий свидетель. Я никуда не прерывал своей работы в области психоанализа». Тем ценнее, по-моему, для нас отзывы Виттельса. «Многие, — пишет автор — применяют фрейдовское толкование сновидений не всегда на благо своих ближних. Не доведенный до конца психоанализ (а я прибавлю — неумелый, кустарный психоанализ. — В. Г.), толкование сновидения, вырванное из жизненной связи, опасно, как операция, прерванная на середине хирургом. Пусть сделают должные выводы из самоубийств психоаналитиков, толковавших сновидения своих больных и увидевших в чужих сновидениях собственное бессознательное, как бы в кривом зеркале. Ужас охватывал их и толкал на самоубийство. Я знал трех таких психоаналитиков: Шреттера, Тауска, Зильберера, добровольно покончивших счеты с жизнью. И это только в Вене. За ними последуют другие. Следовательно, чтобы открытия Фрейда, не превратились в проклятие, как кокаин для наркоманов, применение его должно ограничиться лишь страждущими и обремененными»... (А я прибавлю: применение его должно вверяться и разрешаться лишь под строгой ответственностью, исключи- тельно врачам1 и не только объявившим себя психоаналитиками или попавшим в списки членов «интернационального психоаналитического общества», а доказавшим научными трудами свое знакомство, теоретическое и практическое с психоанализом. — В. Г.). «Психоанализу, — продолжает Виттельс — нельзя научиться из книг» (Виттельс Ф., Фрейд, его личность, учение и школа. Госиздат. Л., 1925, с. 69—70). Среди новейшей доступной мне литературы я нашел еще отзыв Иенского проф. Шульца в его «Руководстве по психотерапии»: «Психоанализ работает с самыми глубинами психической жизни, почему его надо уподобить операции, требующей высшей степени такта, критики и психопатологической рассудительности. К сожалению, эти требования не всегда принимаются во внимание и не только психоаналитиками из среды «диких» дилетантов» (курсив наш. — В. Г.). Недопустимость психоаналитического лечения детей едва ли, мне кажется, подлежит сомнению. Сошлюсь тут на того же Шульца. (там же). А между тем современные нам психоаналитики (особенно доморощенные), как я только что упомянул, нисколько в этом отношении не стесняются. Заканчивая эти строки, мне хочется еще раз подчеркнуть не- допустимость такою положения, когда психоаналитическим лечением, под влиянием усиленной популяризации его некоторыми последователями Фрейда, начинают заниматься все, кому это нравится. Соглашаясь с самим творцом дачного метода лечения, уподобляющим последний операции 1 По-видимому, это зло существует не только у нас, Но немедики пользуют больных по методу Фрейда, — пишет Виттельс на с. 119 своей книги — «по совершенно недозволительно, так как самый глубокомысленный философ без ме- дицинского образования не может отличить рак или туберкулез от невроза. Психоанализ в руках схоластиков и талмудистов так мутнеет, что совершенно гибнет для естествознания. Скоро явится необходимость вновь завоевать его«.
- 162. 162 (довольно опасной, прибавим от себя), мы считаем необходимым обставить лечение психоанализом некоторыми гарантиями безопасности для пациентов. Например, разрешение этого лечения лишь врачам, имеющим известный клинический стаж (не менее пяти лет) в области психоневрологии и др. Наконец, необходимо и психоаналитикам, хотя бы и состоящим в «Интернациональном психоаналитическом обществе», помнить, что последнее обстоятельство еще не создает иммунитета против получения предложенного самим учителем ярлыка «дикий». Психоаналитикам следует покончить, наконец, с «энтузиазмом от своего метода» (Sein Methoden Enthusiasmus). Мы считаем, что для этого настало уже время. Ведь психоанализ достаточно прочно завоевал свое положение и больше не нуждается в таких героических мерах. Пора трезво установить показания и противопоказания и границы применения психоаналитического метода лечения. В этом отношении я вполне присоединяюсь к положению цитированного выше проф. Шульца, который в своей книге в таблице показаний психотерапевтических методов отводит «психоанализу Фрейда» «тяжелые случаи неврозов с сексуальной окраской» (курсив наш. — В. Г.). Пора же в самом деле отрешиться от упрямого желания видеть в этиологии большинства психоневрозов только сексуальные конфликты. Надо научится отыскивать в жизни не результаты предвзятых теоретизирований, а действительные, голые факты. А последние учат нас, что сексуальные конфликты, правда, в известных слоях общества (не в широкой пролетарской массе) играют огром- ную роль в возникновении ряда психоневрозов, но далеко не всегда, далеко не превалирующую роль. Факты, основанные на статистическом изучении пролетарского студенчества Москвы дают основание т. А.Б.Залкинду (которого также нельзя считать в рядах оппозиции Фрейда, насколько это позволяет его марксистская точка зрения) прийти к выводу, что лишь в незначительной части психоневрозов у этого студенчества половые конфликты играют серьезное значение. Это, по А. Б. Залкинду, является «лучшим возражением Фрейду, искавшему под психоневрозом всегда половые корни». Современная психоневрология, 1925, № 8, с. 89–96
- 163. 163 Психоанализ как система воспитания В. Рыжков Психоанализ — учение, возникшее в Венской психиатрической клинике в 1880–1882 гг., как одна из теорий истерии в дополнение к уже существовавшим в то время сотнями самых разнообразных учений об этом многоликом неврозе. Но исходя из наблюдения болезненных явлений, психоанализ вскоре построил очень своеобразную концепцию нормальной душевной жизни и применил свой метод ко всем важнейшим проявлениям психики. Так возникла психоаналитическая литература в области теории художественного творчества, мифотворчества и т.д. Особенное же значение психоанализ приобрел для педагогики, как потому, что концы всякого психоаналитического исследования сводятся к переживаниям детской психики, и здесь психоанализ дает своеобразное ее понимание, так и потому, что психоанализ метод sui generis педагогический: «если хотите, психоанализ можно определить как продолжение воспитания в смысле устранения остатков детства», говорит основатель учения Фрейд. Психоанализ совершенно врывается в область педагогики, когда подвергает оценке обычные приемы воспитания, и вносит в них коррективы. Все это заставляет нас поставить вопрос о психоанализе, в связи с педагогикой. Как мы уже выше сказали, исходным пунктом психоаналитического учения были наблюдения над истерией. Эти наблюдения были произведены проф. Брейером, совместно с Фрейдом, над истерической больной, страдавшей тяжелыми нарвными расстройствами: паралич правой стороны тела, чувствительные расстройства, слепота, отвращение к пище, недостатки речи, бред, сильная жажда и водобоязнь. Особенностью больной было то, что она в бред, в бессвязной форме, высказывала различные свои воспоминания, о которых она ровно ничего не помнила, возвращаясь к сознанию; при этом после бреда, сопровождавшегося таким рассказыванием о прежних переживаниях, у больной наблюдалось ослабление болезненных признаков. Наблюдая такой лечебный эффект бреда, Брейеру и Фрейду пришла мысль усилить его, побудив больную к более откровенному рассказыванию. Это совсем не удавалось при ее сознательном состоянии, удавалось лишь отчасти во время приступов бреда и, наконец, загипнотизировав больную, в этом ее состоянии, оказалось возможным заставить ее подробно рассказать о совершенно забытых ею переживаниях. По мере ее рассказа, те или иные болезненные симптомы исчезали, очевидно, связанные с определенными фактами из жизни больной. Непосредственно перед ее заболеванием у нее умер отец, и вот большинство забытых переживаний оказалось относившимися ко времени, когда больная ухаживала за своим отцом. Так, например, она вспомнила следующий эпизод: однажды отец попросил ее
- 164. 164 сказать, который час. Будучи взволнована тяжелым состоянием отца и силясь подавить выступавшие у нее слезы, она бросилась к часам, но долгое время ничего не могла разобрать на циферблате, так как слезы мешали ее в полутемной комнате что-нибудь увидеть. Этот момент больная пережила очень остро, так как не хотела, чтобы отец заметил ее состояние и слезы. После рассказа об этом случае, сопровождаемого бурными рыданиями, у больной исчезли расстройства зрения. Точно такой же эффект имели другие воспоминания. У них у всех было то общее, что они относились к фактам, окрашенным ярким аффектом, который был в силу тех или других причин подавлен, не отреагирован внешним образом и под конец вытеснен настолько, что самое переживание больная забыла. Особую трудность представляло для лечения больной ее отвращение к пище и водобоязнь. Оказалось, что оно связано с событием детского периода жизни больной. У нее в детстве была гувернантка, которую она очень не любила, и вот однажды ей пришлось наблюдать, как собачка, принадлежавшая гувернантке, напилась воды из стакана больной. Тем не менее из чувства деликатности, больная, не обнаруживая своего отвращения, была принуждена продолжать пить воду из этого стакана. Как только у больной произошло это воспоминание, сопровождаемое сильной эмоцией отвращения, — она избавилась от отсутствия аппетита и водобоязни. Эти наблюдения Брейера и Фрейда привели к следующему построению: истерические симптомы объясняются психической травмой, проистекающей из того, что какой-нибудь аффект больной подавил, не дал ему нормально разрядиться в тех двигательных явлениях, которыми сопровождается эмоция. Будучи неизжитым, он забылся, стал бессознательным и проявляет себя какими-нибудь окольными путями, вызывая суммой своей энергии болезненные явления. Излечить истерию, значило бы пробудить забытое воспоминание, заставить эмоцию, связанную с ним, нормально отреагировать. Такое пробуждение подавленных воспоминаний было названо психоанализом. В дальнейшем эта теория собрала огромное количество материала и построила концепцию душевной жизни, объясняющую как нормальное, так и болезненное течение психических процессов. Под психоанализом стали понимать своеобразный метод исследования подавленного, забытого — бессознательной психики; причем только самое первое время анализ производился при участии гипноза, впоследствии он стал делаться исключительно в бодрственном состоянии. Основным моментом психоаналитической теории является учение о бессознательнйо душевной жизни. Именно, бессознательные переживания руководили больной в ее проявлениях. К ним же психоанализ сводит и целый ряд других явлений душевной жизни. Бессознательное, по определению Фрейда, «есть истинно реальное психическое, столь же неизвестное нам в своей внутренней сущности, как реальность внешнего мира и раскрываемое в столь же незначительно степени, как и внешний мир показаниями наших
- 165. 165 органов». Учение о бессознательном, конечно, совсем не ново в психологии, но Фрейд придает ему совершенно новое содержание. Большинство принятых теорий бессознательного рассматривает его, как сумму психических переживаний, отличающихся от сознания только количественно: ощущения недостаточной яркости не доходят до сознания, но отпечатлеваются в коре головного мозга и при благоприятных условиях могут быть воспроизведенными в сознании. Мало интенсивные представления протекают бессознательно, но могут быть и осознаны, если приобретут определенную яркость. Наконец, вторым моментом, характерным для бессознательного, является его слабая ассоциативная связь с Я. Эта связь определенных групп представлений может настолько ослабеть, что известное представление приобретает полную самостоятельность от самосознания и становится как бы второй личностью, что и бывает при некоторых неврозах (при истерии). Так, в литературе неоднократно описаны больные, у которых в определенный момент жизни их настоящее Я прекращается: они забывают все относящееся к этой жизни и приобретают новых характер, бывают принуждены всему заново учиться и так жить как бы вторым Я. Через несколько времени они опять возвращаются к прежней личности, при этом второе Я совершенно забывается вместе с познаниями, приобретенными за этот период; зато наоборот, в мельчайших подробностях вспоминается жизнь первой личности, которую больной теперь и продолжает до момента, пока он опять не забывает свое Я с тем, чтобы жить несколько времени вторым Я. С одной такой больной случилось так, что она во время жизни во втором Я вступила в брак и очнулась в карете по дороге на свадьбу, не помня, что произошло. И очень недоумавая. Иногда подобные больные уезжают в чужой город, поступают на службы в состоянии второго Я, и потом. Очнувшись, бывают очень удивлены перемене в их жизни, в которой принимало участие второе Я. Во всех этих случаях бессознательное — результат диссоциации личности и второе сознание (Пьер Жане). Для школы же Фрейда бессознательное является принципиально отличным от сознательного. Между сознанием и бессознательным существует антагонизм. Содержанием бессознательного является то, что совершенно неприменимо для сознания, и поэтому бессознательное не может быть в любой момент обнаружено в сознании. От бессознательного следует отличать подсознательное, которое, наоборот, готово всегда стать содержанием сознания. Когда мы начинаем думать о чем-нибудь, то мы еще не располагаем всей суммой воспоминаний, связанных с этой мыслью; только подсознательное хранит их, и они всплывают, благодаря ассоциации. Бессознательное не может так легко войти в сознание: только в бреду, в гипнозе, при затуманенном сознании больная Фрейда (о которой мы говорили) вспомнила бессознательные переживания сна, то, что нормально погребено и не может стать содержанием сознания.
- 166. 166 Таким образом, Фрейд устанавливает три системы психического: сознание, подсознательное и бессознательное. Содержанием психического является: представления, аффекты, связанные между собой ассоциацией, при этом сознание является органом исключительно воспринимающим, как впечатление внешнего мира (ощущения), так и материал из подсознательного (представления); кроме того, сознание переживает то, что мы называем аффектами, то есть ответ на поступающее впечатление. Сознанию совсем не свойственна память. Память дело подсознательного и бессознательного, но зато содержанием этих областей является чистое представление. Аффект чужд им. Именно тогда представление становится вне сознания, когда лишается своей аффективной окраски. Физиологической канвой всякого психического акта является процесс типа рефлекса. Нервная энергия, возникшая психологически в виде вожделения. Аффекта, стремится разрешиться в моторном акте. Но для того, чтобы этот аффект был в соответствии с действительностью, ее возможностями, он должен быть урегулирован, модифицирован предыдущим опытом, в этом отношении необходима деятельность памяти, то есть к возникшему в сознании представлению ложны присоединиться путем ассоциации образы воспоминаний. Этими образами располагает подсознательное, которое и играет в данном случае роль регулирующей инстанции. Подсознательное (образы воспоминаний). Физиологические следы прежних раздражений, лежат между сознанием и его воплощением в поступке; от подсознательного зависит реализовать поступок, применяясь к условиям социального и всякого другого бытия. На языке обычной психологии здесь дело идет о том, что всякое восприятие и эмоция, с ним связанная, стремятся к двигательному эффекту, и на пути к нему проходят через задерживающие и модифицирующие центры представлений (см. Циген — «Физиологическая психология»). Оригинальней — другая сторона деятельности подсознательного: будучи аппаратом, видоизменяющим сознательный импульс к поступку, согласно прежним следам раздражений, подсознательное может и совсем задержать, не допустить к реализации любое вожделение. Это бывает тогда, когда оно неосуществимо, и еще больше, когда оно противоречит всей системе подсознательного, как она сложилась путем опыта и воспитания. Мысль, противоречащая этической. Эстетической, религиозной личности и т.п., задерживается подсознательным, как ведущая к конфликту. Эта задержка идет так глубоко, что самая мысль совершенно забывается, то есть становится бессознательной. Бессознательное и есть область, которая содержит представления, устраняемые цензурой подсознательного. Итак, мы имеем ряд психических процессов двигательного характера, которые идут от восприятия к моторной сфере через цепь образов воспоминаний, а на этом пути необходимо нанести три отдела: сознание, воспринимающее и переживающее аффект, бессознательное с его представлениями, не реализуемыми в поступке, и подсознательное, которое
- 167. 167 лежит у самой моторной области, играет роль цензурной инстанции, и допускает или не допускает определенный процесс совершиться сознательным поступанием. Вот схема в основном, заимствованная из «Толкования снов». Таким образом источник бессознательного, это — вожделения, подвергаемые цензурным аппаратом подсознательного вытеснению. Так, у первой пациентки Фрейда, о которой мы говорили выше, вытеснению подверглось отвращение к гувернантке (роль воспитания, понятия о приличии). Другая пациентка Фрейда заболела истерией тотчас после того, как у гроба ее сестры у ней мелькнула мысль о муже ее сестры, в которого она была влюблена: «теперь он свободен и может жениться на мне». Эта мысль была тотчас же забыта (ее восстановил только психоанализ), так как она противоречила всей этической личности пациентки. Как же происходит вытеснение? Очевидно, прежде всего, что оно результат определенной динамики сил, которые вступают в конфликтные взаимоотношения. Личность, как совокупность приобретенного по наследству предрасположения, опыта и воспитания, оказывается сильней даже напряженного, но эпизодического аффекта и подавляет его. При этом особую роль в означенной цензуре играют социально-этические мотивы, так как момент общественной жизни человека, по преимуществу, образуют
- 168. 168 личность. «Вытеснение обозначает размеры той жертвы, которую культурное развитие общества возлагает на членов данного общества». (Ранк и Зах. «Значение психоанализа в науках о духе»). Чтобы вытеснение удалось, надо отнять от группы гонимых представлений именно то, что придает им силу, делает их сознательными, то есть психологически — аффект, а физиологически — определенную сумму энергии. Это и совершает цензура подсознательного; таким образом аффект отщепляется от представлений, с которыми он был связан, и представления становятся бессознательными. Здесь выступает учение Фрейда об аффекте; качество аффекту придают представления, с которыми он связан, а интенсивность — сила нервного возбуждения, энергии, которая физиологически лежит в основе аффекта. Вот это то нервное возбуждение и не может быть устранено вытеснением; цензура ему только закрывает доступ к совершенно определенному проявлению, аффект остается не отреагированным и создает в нервной системе избыток возбуждения, нарушающий нервно-психический тонус. В стремлении к выравниванию этого тонуса аффект должен найти тот или другой выход. В этом, в сущности, и дает себя знать вытеснение. Так, в истории болезни, с которой мы начали изложение учения Фрейда, аффект разрядился в целый ряд нервных расстройств. Такова в кратких чертах механика душевной жизни по Фрейду. Ею исчерпываются все психические явления с точки зрения элементов, в них ничего нет, кроме ощущений, представлений и аффектов. Между которыми существует ассоциативная связь. Воля — только динамика аффективно окрашенных представлений; внимание обуславливается эмоциальной силой тех или других представлений. Все ассоциативные связи образуют три системы: сознания, бессознательного и между ними, как экран, пропускающий только лучи определенного цвета, цензурный аппарат подсознания. В психологии Фрейда есть много неясного, недостаточно разработанного, а потому, может быть, порой даже производящего впечатление взаимного противоречия. Особенно неясно учение об аффектах, какова связь их с нервной энергией? Это противоречит некоторым дальнейшим выводам Фрейда, согласно которым определенные аффекты, как, например, сексуальный, им определяются как таковой, и без специфических представлений. Наконец, само бессознательное является ли только суммой изгнанных из сознания представлений, или содержит в себе весь реальный психический опыт, из которого через цензуру подсознательного лишь кое-что просачивается в сознание? Многое заставляет остановиться именно на первом толковании, но тогда неприменимо к бессознательному пониманию его Фрейдом, как обширнейшей универсальной психической реальности (см. выше данное определение Фрейда бессознательного, как равносильное по многообразию внешнему миру).
- 169. 169 Все эти вопросы возникают потому, что теоретическое учение Фрейда нигде не изложено систематически и нигде автор его не пытался их поставить в связь с обычными схемами психической жизни. Мы воздержимся здесь от критики общих психологических предпосылок Фрейда, так как сам автор набросал их только вчерне, поскольку это необходимо для понимания наиболее интересующих его механизмов. Мы перейдем прямо к этим механизмам. Итак, вытеснение ведет к отщеплению свободной энергии (аффекта), которая создает нервное возбуждение — субъективно тяжелое чувство напряжения и беспокойство. Вытеснение может считаться удавшимся лишь тогда, когда ему удастся найти путь к разряду освобожденного аффекта. Этот путь может быть нормальным или же болезненным. Мы рассмотрим сначала патологические случаи, так как именно они послужили исходным пунктом учения Фрейда. Наиболее простым случаем разряда «ущемленного» цензурой аффекта является то, что Фрейд назвал конверсией. Она состоит в том, что нервная энергия подобно тому, как она проявляется при аффекте, сопутствующими телесными явлениями (слезы, прилив крови к золове), ведет к целому ряду соматических телесных расстройств. Но энергия может разрядиться не в телесной, а в психической области. Так, например, рождаются. Так называемые, навязчивые идеи и действия. Навязчивая идея — это какое-нибудь представление, которое вплетается в сознание, не будучи связанным со всем его остальным содержанием и тем не менее обладая силой, иногда способной нарушить весь ход мыслей. Такие идеи появляются при утомлении и у здоровых людей, например, какой- нибудь отрывок стиха, надоевшая мелодия; у больных они часто приобретают мучительно-настойчивый характер: например, молодой, высоко-этичной девушке навязчиво лезет в голову площадная бранью. Иногда к навязчивому представлению присоединяется какой-нибудь нелепых страх; сам больной понимает бессмысленность этого страха, но не может от него отделаться, например, боязнь площадей, закрытых комнат, темноты и т.п. Навязчивые действия сводятся к какому-нибудь «щелканью пальцами» или еще к чему-нибудь, что больной выполняет, невольно, сам того не зная, зачем он это делает. Мы не будем подробно останавливаться на генезисе этих состояний. Укажем только, что здесь дело идет о том, что аффекты отщепившиеся от изгнанного в бессознательное представление, присоединяются к акому- нибудь представлению безразличному, которое является как бы символом изгнанного. Этим-то аффектом и объясняется интенсивность навязчивых идей. Навязчивый страх — работа той же свободной психической энергии. Навязчивые действия — попытка (позникающая постоянно) отреагировать ущемленный аффект. Чем же объясняется тот или другой характер навязчиво идеи? Не надо думать, что идея возникает случайно. Большая заслуга Ферйда в том, что он везде строго проводит принципы обусловленности всего психического. В душевной жизни ничего нет случайного — все строго детерминировано, так же, как и в мире физическом.
- 170. 170 Если та или другая система органов страдает от подавленного аффекта, то это потому, что возникающее расстройство как-либо можно ассоциативно связать с подвергнувшейся вытеснению группой представлений (вспомним водобоязнь, возникшую в силу отвращения к стакану, из которого больной приходилось пить). Точно также навязчивая идея непременно связана с бессознательным представлением. Это достигается. Во-первых, тем, что аффект переносится на что-либо самое несущественное во всем вытесненном комплексе и фиксирует его в сознании (механизм смещения). Так, один невротик, анализировать которого пришлось автору этой статьи, страдал навязчивым действием: он подбирал на улице всякие бумажки и, подержав их несколько секунд в руках, пускал по ветру. при анализе оказалось, что больной был заражен (обычным путем) сифилисом и пережил остро мстительный аффект: — заражать означенной болезнью проституток и вообще всех. Этот аффект был подавлен логичной и моральной личностью больного, и им забыт. Несущественное в данном аффекте — возможность заразить бумажками, разносимыми по ветру — фиксировалось в сознании; не отдавая себе отчета, в чем тут дело, больной неоднократно интересовался: может ли скарлатина и другие болезни переноситься ветром? (скарлатина!.. У больного не могло быть к ней никакого интереса: в его семье не было детей). — Аффект нашел удовлетворение в несущественном. На нашем примере можно показать и другие механизмы Фрейда. Таково, например, сгущение. Оно состоит в том, что вокруг одного однажды выбранного представления группируются многие бессознательные аффекты; это, так сказать, лаконизм бессознательного. Наш больной рассказал, что ему в детстве доставляло эротическое удоволствие подсматривать под развеваемые ветром юбки качавшихся на качелях девочек. При этом он свое переживание образно описывает: «Как будто лепестки цветов, подхваченные ветром, развеваются». Раньше, стараясь рационализировать свою страсть к бумажкам, он говорил, что ему нравится наблюдать, как красиво они летят по ветру. Ясно, что здесь имело место сгущение — в силу поверхностного сходства; другой аффект, вытесненный с возрастом — детское сексуальное любопытство, тоже нашел удовлетворение в навязчивом действии. Когда мы разъяснили больному смысл его поведения. Симптом исчез. На примере этого анализа можно показать еще один механизм. Считая свою привычку собирать бумажки смешной, больной, тем не менее пытался логически объяснить ее. Он говорил, что бумажки, которые он подбирает, могут пригодиться. Когда мы указывали на то, что им подбираются мелкие, никуда не годные бумажки, и тотчас по ветру разбрасываются, он сослался на объяснение, котором мы уже говорили (эстетическое удовольствие). Вот эта вторичная обработка сознанием продукта, уже обработанного цензурой подсознательного, является своеобразной рационализацией болезненных симптомов, которая часто имеет место. Итак, в болезненном симптоме образно, символически проявляется бессознательное, и аффект, согнанный цензурой с его пути, находит удовлетворение символически (бросание бумажек), а невроз является как бы компромиссом между
- 171. 171 сознанием и бессознательным. Аффект допущен, но в форме ничем почти не напоминающей изгнанное представление, и сознание даже пытается иногда его апперцепировать, как нечто логически понятное. Таким компромиссом является и целый ряд проявлений нормальной психики, к которым мы и перейдем, минуя механизмы других патологический состояний (например, психоза), тем более, что сам Фрейд на них очень мало останавливается: они подробнее разработаны Юнгом, отколовшемся от школы Фрейда, в духе которой мы ведем изложение. Среди таких проявлений бессознательного в нормальной психике надо прежде всего остановиться на обмолвках, описках и т.д. Обычно мы их считаем совершенно случайными, но это противоречит закону строгого детерминирования каждого психического факта. В каждой описке, обмолвке можно найти проявление бессознательного (см. Фрейда — «Психопатология обыденной жизни»). Острота является компромиссом между цензурой подсознательного и бессознательным. В ней надо различать два момента: технику и тенденцию. Тенденция имеет тот смысл, что то, что нельзя высказать всерьез востроте, допускается как шутка, которая является как бы скрытым нападением со стороны вытесненных представлений. Техника остроты имеет тот смысл, что доставляет удовольствие, устраняя напряжение, которое тратится на подавление запретных мыслей. Характерным механизмом остроты является уже знакомое нам сгущение, которое придает остроте лаконичность и концентрацию содержания. Любопытно, что тот, кто острит, не смеется: им энергия тратится на образование самой остроты; смеется тот, кто слышит остроту, отреагируя таким образом освободившуюся энергию (Фрейд — «Острота и ее отношение к бессознательной сфере»). Гораздо большее значение, чем описки и остроты в обыденной жизни, имеют сновидения. При помощи их мы освобождаем свою «душу» от напряженных конфликтов между сознанием и бессознательным. Основное положение Фрейда гласит: сон есть исполнение желаний. В очевидной форме это и проявляется во многих сновидениях, особенно детских: сыну Фрейда снится яблоко, которое отец пообещал ему с вечера. Иногда желание прозрачно сказывается в снах взрослых людей. Когда Фрейд с веера съест селедки, ему снится, что он пьет воду (жажда). Женщине, имеющей основание думать, что она беременна и боящейся этого, снится менструация; снятся близкие умершие люди, которых мы хотели бы видеть живыми. Но в большинстве случаев, по крайней мере у взрослых, желание, которое исполняется сном, не бывает так невинно, чтобы оно могло в совершенно явном виде войти в сознание. Правда, своеобразные, психологические условия, в которых находятся во время сна мозг и сознание, — именно, слабая интенсивность последнего, — предрасполагает бессознательное к проникновению его в сознание. Но все же цензура оказывается достаточно сильной, чтобы не допустить желания без маскировки. И здесь бессознательное идет на компромисс. Оно проникает в сознание, но при этом искажается до неузнаваемости. Отсюда специфические законы изобразительности сновидений и их своеобразный язык. Мы приведем
- 172. 172 несколько наиболее легких для толкования снов, в значительно сокращенном виде против того, как они приводятся у автора капитального труда — «Толкование сновидений». У Фрейда была пациентка, его знакомая; психоанализ помог ей, но не вылечил окончательно. Это очень тревожило Фрейда и задевало его самолюбие, — тем более, что его коллега с упреком осведомился о ее здоровьи. И вот, Фрейду снится, что у его пациентки болит горло. Автор исследует ее и находит дифтеритный налет. Вместе с Фрейдом осматривают пациентку двое его коллег, Отто и М., Фрейд высказывает мнение: во-первых, что пациентка сама виновата в болезни, во-вторых, что ее заразил впрыскиванием Отто, врач М. успокаивает: «У Ирмы (имя пациентки) скоро будет дезинтерия, и зараза выйдет)». Фрейд толкует сон, как бессознательное самооправдание: во-первых, Ирма не приняла выводов анализа, который применил к ней автор, и потому она сама виновата в своих страданиях; во-вторых, у нее дифтерит, органическое страдание, — следовательно, автор опять не виноват, так как психоанализ помогает только при функциональных нервных расстройствах. Наконец, сон мстит двум коллегам Фрейда, которые так или иначе задевали его самолюбие. Отто заразил пациентку, а М. — глуп, высказывая бессмысленное предположение, что дезинтерия может избавить ее от страдания. Мы очень сократили самый рассказ сна и его толкование. В полном виде этот сон дает материал для иллюстрации сгущения, которое производится при сновидении: вокруг этого же сна группируется целых ряд других конфликтов и вытеснений Фрейда, например, налет в горле больной во сне почему то напоминает носовую полость, указание на тревогу Фрейда за состояние его носа, в связи с хроническим насморком и частым смазыванием его кокаином. Фигурирующее отравление инъекцией связано с воспоминанием Фрейда, что его друг отравился кокаином, впрыснув его под кожу, когда Фрейд назначил ему это лекарство для внутреннего употребления, и т.п. Во время сна маскировка сказывается не только на образах, но и на эмоциях, которые сопровождают сон. Часто они видоизменяются и ничем не напоминают эмоцию, породившую сновидение. Примером может служить следующий сон Фрейда. Предварительное сообщение. Фрейд выставлен кандидатом в профессора, но он мало надеется, что министерство утвердит его, так как знает политику министерства — не давать евреям кафедры. Хорошим доказательством тому служит коллега Р., который уже давно числится кандидатом, и по вероисповедным мотивам до сих пор не назначен профессором. Еще другой коллега — кандидат в профессора, тоже еврей. Впрочем, он говорил Фрейду, что есть и другая причина того, что его не назначают профессором: он был замешан в одном судебном процессе, который, правда, был неоснователен, и дело против него было прекращено. Сон. Коллега Р. — дядя Фрейда, и Фрейд питает к нему очень нежные чувства. Анализ. Один из дядей Фрейда был осужден за очень тяжелое преступление — никакой особой любви Фрейд к нему не питал. Коллега Р.,
- 173. 173 по мнению Фрейда, был недостаточно талантлив. Во сне личность коллеги Р. Сливается с дядей-преступником, для того, чтобы сопоставить двух кандидатов-неудачников в профессора: Р. — дурак, другой — преступник. Следовательно, они дискредитированы, и они не пример. Фрейд может рассчитывать на получение кафедры. Нежные чувства к дяде во сне появляются лишь затем, чтобы получше замаскировать неприязнь, которую бессознательно Фрейд чувствует к живым примерам, что и для него лежат непреодолимые препятствия в его карьере (вероисповедание). Очень часто снятся вещи, о которых никак нельзя предположить с первого взгляда, что в них скрыты желания. Так, одной особе снится, что ее дочь мертвая лежит в коробке. При толковании оказывается, что Bьchse — жестянка, коробка — вульгарное название женских половых органов. И особа, которой приснился сон, в первый год замужества настолько боялась беременности, что предпочитала родить мертвого ребенка. Другой особе снилось, что умер сын ее подруги, которого она очень любила, хотя меньше, чем второго сына той же подруги, который, действительно умер несколькими годами раньше. При анализе оказывалось, что эта особа влюблена в одного профессора, с которым давно уже не видится, и наблюдает его только издали. На другой день после сна она должна была пойти на концерт, где опять-таки со стороны могла бы увидеть любимого человека. Этот профессор раньше бывал, а теперь не бывает у ее подруги; последний раз она встретилась там с ним на похоронах первого сына подруги. Логика бессознательного такова: если бы умер второй сын, любимый тобой человек, наверное, опять был бы на похоронах. Бессознательное имморально, прямолинейно — и, не ожидая встречи в концерте, спешит с осуществлением своего желания. Цензура подавляет тайный смысл вожделения. Эмоция страха, отвращения, которые сопровождают многие сны, ничуть не противоречат формуле: сны — исполнение желаний. Эти эмоции возникают вторично в силу того, что бессознательное слишком явно врывается, и сознание испытывает при этом мучительный конфликт и отвращение. Впрочем, после пробуждения, сон подвергается вторичной обработке, еще больше искажается, по частям или в целом забывается и т.п. Чем скорее сон забылся, тем, вероятно, более преступным он был с точки зрения сознательности. Очень важно для дальнейшего изложения теории Фрейда отметить, что сплошь и рядом в снах взрослых людей проявляются переживания самого раннего детства, совершенно забытые бодрствующим сознанием. Так, одному субъекту снилось, что в детскую, где он спал с бонной, ночью заходит управляющий домом. О подобных фактах этот субъект ничего не помнил, но после того, как он рассказал этот сон своему старшему брату. Тот подтвердил истинность сна, так как действительно управляющий находился в связи с бонной и по ночам посещал ее. При этом любовники спаивали его старшего брата пивом, чтобы тот крепче спал, а на младшего не обращали внимания.
- 174. 174 Если подойти ближе к механизму образования снов, то окажется, что скрытыми пружинами всякого сна являются бессознательные желания, но материалом, в который они облекаются — могут служить самые индифферентные переживания, обычно переживания предыдущего дня, которые, благодаря какой-нибудь ассоциативной связи с бессознательным, освежают его и во сне помогают ему, как проявиться, так и скрыться за материалом с виду безразличным. Могут входить в сон и телесные переживания, но при этом они тоже истолковываются согласно бессознательно основной тенденции сна. При этом истолковании сна особенно важно и самое желание сохранить сон: так, врачу, которого будят в госпиталь, снится, что он уже в госпитале, осматривает больных (следовательно, просыпаться не к чему), или пение ласточки, действуя на спящего, отражается в его сознании, как пение соловья, а если поет соловей, значит еще ночь. Сон имеет свою совершенно своеобразную манеру изъясняться: так, логическая связь во сне передается одновременностью, причинность — последовательностью, альтернативу, вообще, сны не признают. Наконец, несколько лиц, чем-нибудь сходных, сон очень легко идентифицирует (отождествляет) в одном лице. Самое же существование во сне — это символика, именно, при помощи ее сон достигает того освобождения от ущемленных аффектов, в котором его назначение. Эта символика в психоаналитическом учении играет огромную роль, и потому мы не ней подробнее остановимся. Символ для школы. Фрейда — это «наглядная замена чего-либо скрытого, с чем у него имеются общие внешние признаки или внутренняя ассоциативная связь». При этом для символики характерна известная ее независимость от индивидуальных условий: есть типичная символика, проверенная на сотнях случаев, с большим постоянство она выражает одно и то же в различных снах и других феноменах бессознательного. Так, всхождение по лестнице в снах символизирует половой акт, возможно в силу ритмичности и той и другой функции (Фрейд). Коробка, туннель, коридор — матку. Вообще половые органы могли бы символизировать рот, язык, но это для сна кажется слишком прозрачным, и по смежности он берет другой ближайший объект — зубы, которые часто заменяют во сне половые органы. В зависимости от оттенка, символика изменяется; так, пенис символизируется змеей, если сон хочет подчеркнуть гибкость, отвращение; птицей при положительнойм отношении и т.д. Чрезвычайно любопытны опыты экспериментальной символики. Так, испытуемому заказывался сон в научных терминах, и эта ситуация снилась на типическом языке сновидения (Карл Шрётер). Объективное постоянство символики должно значительно облегчить анализ бессознательного. Мы рассмотрели, как компромисс обнаруживается в сновидениях, но конфликт личности с бессознательным проявляется и другим путем, прежде всего, в создании активной группы представлений, которая служит для
- 175. 175 самозащиты сознания, она энергично вытесняет определенные вожделения, наклонности прямо противоположными тенденциями. Человек, имеющий слабость к алкоголю, делается рьяным ненавистником пьянства. Человек с криминальными склонностями становится судьей, блюстителем правопорядка. Такие люди, особенно, ненавидят в других черты, свойственные их собственному бессознательному, так человек с гомосексуальными задатками особенно отвращение питает к тем, у которых проявляются подобные задатки, и даже, особенно, выискивает их у своих близких. Так, один невротик, с которым нам приходилось вести психоаналитические беседы, любил подчеркивать свою ненависть к армянам за то, что они, будто бы, все гомосексуалисты. Между тем этот порок бессознательно был присущ нашему невротику. Такое перенесение, которое выражает известная пословица «с больной головы на здоровую», Фрейд назвал проекцией. Типичным является тот механизм, который Фрейд характеризует, как перенесение на безобидное место и «снизу вверх», он сказывается в проявлениях платонической любви, в Amor Dei мистиков, в воспевании вина и любви в переносном божественном смысле суфийскими поэтами. Наконец, самой существенной является судьба ущемленного аффекта, когда он на деле утилизируется с пользой для культурной личности и общественной деятельности. Ведь, сам по себе аффект ничего специфического не содержит, и отщепленный цензурой, от гонимых представлений он может, как сумма энергии, найти самые положительные применения. В этом случае следует говорить о наиболее удачном вытеснении. Такое претворение вредного аффекта в социально-полезные формы Фрейд назвал сублимированием. Самым грубым примеро сублимирования являются некоторые случаи выбора профессии, детерминированые бессознательным. Так, человек жестокий в дестве (садизм), благодаря воспитанию, подавляет эту особенность, но делается мясником или даже высоко гуманным и талантливым хирургом, сублимирующим аффект садистических вожделений в искусство оператора. Впрочем, понятие сублимирования для Фрейда и его школы имеет гораздо более широкое значение. Всякий мощный аффект, отщепившись от своего представления, может сыграть роль крупной психической силы. Таким аффектом является сексуальный, которой, как мы увидим дальше, можно считать самым важным для возникновения механизмов Фрейда. Сексуальный инстинкт, как он врожден биологической личности, несравненно шире, чем общественная жизнь допускает его к осуществлению, поэтому, сексуальный конфликт наиболее частый и существенный, а отщепленное либидо самый распространенных вид психической энергии, который может различным образом осуществиться: в болезненных явлениях, в сновидениях, и, наконец, в сублимировании. В последнем случае она сообщает огромную психическую энергию любознательности, научной работе, художественному творчеству и т.д. Все виды этой высшей деятельности зависят от удачного использования огромных запасов энергии, освобождаемой при вытеснении
- 176. 176 сексуального. На примере биографии анализа творчества Леонардо да Винчи, Фрейд иллюстрирует закон сублимирования. Леонардо да Винче был, по Фрейду, человек с гомосексуальными наклонностями, которые его высокоразвитая личность подавляла, и освобожденный при этом аффект сублимировало в научном и художественном творчестве. Процесс вытеснения, сублимирования, происходящий при развитии каждой отдельной личности, применим также и к развитию общества в целом. Общество начинает свою жизнь с самых примитивный биологических удовлетворении. Сексуальное занимает первенствующее место в жизни этого общества, только позднее, как результат культуры складываются различные нормы для сексуального, как, например, запрещение половых сношений с ближайшими родственниками. Эти вытеснения производятся при помощи всяких табу, религии и т.п., но вытеснение предполагает отщепление аффекта и удовлетворение его. И вот роль сновидений в социальной жизни играет миф. Сон и миф имеют много общего по своей символике и содержанию. Так, миф об Эдипе выражает кровосмесительное желание в замаскированной форме. Оправдание преступных вожделений находится в том, что Эдип не знал, что живет со своей матерью. И наконец, сознание получает удовлетворение в судьбе, которая постигает Эдипа. Иные сказания производят подмен материи отца другим лицом, на котором и сосредотачивается сексуальный интерес сына, дочери; при этом всегда удается найти нить, обнаруживающую кровосмесительную фантазию, выраженную по принципам компромисса с цензурой. В снах мы тоже сталкиваемся с кровосмесительными желаниями, при чем объект кровосмешения обычно искусно замаскирован. Аналогию развития общества и индивида можно провести еще дальше, поскольку удается открыть, что те или другие сексуальные аффекты подвергались историческим ограничениям, сублимировались, находили себе полезное выражение. Иначе, как сублимированием и желанием психики тяжелый труд окрасить удовлетворением либидо нельзя объяснить ту аналогию, которую создают дикие народы между трудовыми процессами и фактами половой жизни. Так, для многих народов, в том числе и индусов, добывание огня — символ полового акта. В Риг-Ведах говорится: «Вот огниво; рождающее (мужской кремень) приготовлено, принеси сюда госпожу племени (женский кремень). В обоих кремнях покоится плот любви, который уже помещен в беременную женщину. В нее, которая уже раздвинула ноги, он входит, как опытный и знающий». По древнееврейски, мужской — равносильно бураву, женский — выдолбленная. Раз возникшее уподобление, в интересах облегчения работы при помощи ассоциации ее с либидо, теперь развивается в постоянный символ: огонь — эротика, который повторяется везде в мифах, в снах, в пословицах. Так, Гекубе, беременной Парисом, снится, что она приносит миру огонь, который подожжет весь город. Периандру Мелисса (Геродот V, 92) сообщает, что он поставил хлеб в холодную печку, что ему служит знаком того, что он совокуплялся с трупом Мелиссы. Рассказ об аисте,
- 177. 177 трубочисте и очаге, которым детям разрешают проблему деторождения, полон той же символике. Наконец, Франц Моор в «Разбойниках», желая подчеркнуть кровное родство говорит: «Они вышли из той же печки». А мы постоянно говорим в поэзии, в обыденной жизни об огне, о пламени любви. Точно также пахота тесно связана с половым актом. Первоначально, вероятно, это сделано было с целью сублимировать часть полового аффекта на необходимое для культурного развития дело. Позднее фигурирует «мать земля». А в языке эта связь отражается словами семя, оплодотворение, имеющими двойное значение. По гречески, латыни и на некоторых восточных языках пахать это значит совершать коитус. У Соломона в «Песне песней» женские половые органы называются — виноградная гора, а по- гречески — сад, луг. Итак, рост культуры совершается посредством ограничения сексуального инстинкта в его крайних проявлениях, путем соответствующего сублимирования или компромиссного выражения в мифах. В этом процессе складывается и основная символика, которая глубоко проникает в душу народа, в его язык. Поэтому символику сна при толковании какого-нибудь сновидения сплошь и рядом можно объективно подтвердить филогенетическим, этнографическим и лингвистическим материалом. Символика — это бессознательный осадок изменившихся, ставших ненужными, средств приспособления. Через установление в происхождении мифов механизма родственного компромиссному выяслению бессознательного, которое мы встречаем в снах, очень близко до истолкования художественного творчества по тому же типу. Творчество художника для Фрейда — путь к удовлетворению социально гонимых не могущих быть реализованными вожделений. Самый простой случай это, когда арабский поэт, которому пророк запретил все спиртное, воспевает вино в стихах, а на выговор калифа отвечает, что то, чего нельзя в жизни, можно в поэзии. Этой формуле бессознательно следует всякое искусство. Чем больше моментов преступных, подавленных оно выражает, тем более символическую, затуманенную форму оно им придает. Излюбленными приемами искусства является сгущение, подтасовка подставного лица (например, при кровосмесительной фантазии) и, наконец, проекция бессознательных вожделений на так назыв. отрицательных героев, которые будто бы выводятся в целях обличения, но в которых бессознательное находит удовлетворение. Особенностью искусства является то, что оно создает такие рамки для переживаний ими возбуждаемых, что эти последние протекают в известном смысле изолированно от чисто жизненных ассоциаций (Мюнстенберг, Гаман). Это делает переживание сравнительно безопасным и допускает в искусстве известные вольности и антисоциальные наслаждения. Таким образом, искусство достигает устранения психического напряжения, порождаемого вытеснением (разряд ущемленной энергии) того, что уже Аристотель подметил, как очищение от страстей (катарсис).
- 178. 178 Выяснив ряд механизмов надиндивидуально регулирующих взаимоотношение сознания с бессознательным, мы невольно приходим к предположению, что содержимое бессознательного не случайно. Типичной символике, всеобщему освобождающему, разрешающему аффективность значению мира, искусства, должны соответствовать какие-то единые основы бессознательного, а отнюдь не отрывочный набор случайно вытесняемых представлений. Так оно и есть; для Фрейда ядро бессознательного в высшей степени всеобще. Это ядро возникает из таких переживаний, которые в известной стадии развития присущи всякой нормальной психике, но затем в силу общественного роста личности подвергаются вытеснению. Такими переживаниями являются сексуальные. Точно также, как при анализе мифов приходится исходить из неограниченной сексуальности первобытного человека, постепенно ограничиваемой культурой и претворяемой в другие виды энергии, детству человека соответствует широкая сексуальность. Это утверждение с первого взгляда кажется очень странным, так как мы привыкли связывать первые яркие проявления полового чувства с половой зрелостью, но Фрейд считает установленным научным наблюдением, что уже грудной ребенок в известном смысле слова сексуален. При этом сексуальность Фрейд понимает в гораздо более широком смысле, чем это принято обычно. Прежде всего «сексуальный инстинкт ребенка совершенно не зависит от функции размножения, он преследует только чувственные удовольствия различного рода» (Фрейд). Поэтому проявлением сексуальности грудного ребенка будут не только онанистические действия, которые он порой совершает, но и акт сосания груди доставляет ему удовольствие, связанное с либидо. Эта стадия сексуальности может быть обозначена, как аутоэротизм. Ребенок получает удовлетворение через свое собственное тело. Такими эротогенными зонами являются прежде всего половые органы, но ими могут быть и другие части тела, например, губы и так далее. В раздражении этих зон состоит половое удовлетворение, ту же роль играет мочеиспускание, дефекация, при чем маленькие дети часто находят половое удовлетворение, задерживая кал, что ведет к детским запорам. Понятно, что такая стадия сексуальности должна быть с возрастом устранена, эротогенные зоны строго локализованы, а либидо перенесено на другой объект. Если это не удается, то мы имеет дело с половым извращением, фактически половым инфантализмом (детскостью), которое в психопатологии принято называть нарциссизмом. Миф о Нарциссе соответствует этой стадии сексуальности. Нормально же аутоэротизм переходит в период, в котором либидо избирает себе объект, при чем на этом уровне развития полового чувства для него характерно: во-первых, отсутствие связи с определенной половой целью, во-вторых, отсутствие выбора объекта (безразличен пол объекта). Либидо, переносимое впервые на объект, не связано вовсе с половым актом, оно находит удовлетворение в нежности и в других менее невинных формах. Так наиболее примитивным перенесением автоэротизма является удовольствие от показывания половых органов, которое испытывает ребенок.
- 179. 179 В любой деревне, говорит Фрейд, можно наблюдать, как дети при вашем появлении задирают рубашонки. Вообще, дети любят обнажаться. В дальнейшем развитии эта стадия подлежит устранению, но существуют типичные сны взрослого человека, которые напоминают об э том детском переживании в силу того, что желание его повторить сохраняется в бессознательной сфере. К таким снам относятся сновидения, при которых нам кажется, что мы обнажены или у нас есть какой-нибудь недочет в костюме (отсутствие галстука — для военных достаточно, чтобы снилось, что они не совсем по форме одеты), при этом нас окружают совершенно посторонние люди, которые очень равнодушно нас наблюдают, совсем не замечая нашей наготы, а нам мучительно стыдно. Во сне посторонние нарочно заменяют родных, которые, главным образом, были объектом либидо в детстве, их равнодушие только подчеркивает скрытый момент — ласку родных; наш стыд маскирует удовлетворение бессознательного и является реакцией сознания. Если этот вид удовлетворения не подвеграется достаточному вытеснению, то мы получаем половое извращение, известное под именем эксгибиционизма, любовь обнажать половые органы. Exhibitionism появляется также, как инволюционное явление при распаде личности, например, при прогрессивном параличе. Другим видом инфантального либидо является удовольствие, которое ребенок получает, находясь в положении обиженного, наказанного, страдающего; в этом случае половое чувство выливается в мазохизм. Многие наши сны могут быть истолкованы только как мазохические фантазии, например, когда в снах мы фигурируем уничтоженными, побитыми. Наконец, садизм является очень частым способом отношения к объекту либидо в детском возрасте. Маленькие дети проявляют часто удивительную жестокость, любят играть в игры, в которых они изображают убийц, палачей, судей. Отрывают крылышки у мух и всячески терзают животных. Штекель и то, что дети любят ломать игрушки, относит за счет садизма. Конечно, этот инфантальный садизм подлежит вытеснению воспитанием и нормально уже очень рано у ребенка исчезает. Что касается объекта детского либидо, мы уже видели, что он уже избирается безразлично из какого пола. Это объясняется прежде всего отсутствием определенной сексуальной цели, и кроме того тем, что у ребенка, как показал Фрейд нет сознания различия полов («Психоанализ детского страха»). Пенис представляется ребенку присущим также женскому полу. Интерес к пенис’у заставлять ребенка предпринимать всякие ис- следования. Так пятилетний пациент Фрейда находил его у лошадей и даже у неодушевленных предметов. Уверенность в существовании пениса у женщин, у ребенка так велика, что пациент Фрейда наблюдая, как купают его новорожденную сестру, заявил, что у нее еще маленький пенис. Фиксация эротического интереса на пенисе может повести к тому, что маленький пенис, отсутствие такового, ребенок будет рассматривать, как уродство, малоценность, вызывающие пренебрежение и отвращение. В значительной мере с этим можно связать снисходительно-пренебрежительное отношение
- 180. 180 мальчиков к «девчонкам». Бессознательно сохранившаяся фикция пениса может повести у взрослого к гомосексуальным наклонностям, так как ребенок в значительной мере гомосексуалист. Отвращение к женщине гомосексуалистов имеет корни в инфантальной эколюции полового чувства. Ищущее объекта либидо ребенка чаще всего сосредотачивается на ближайшем — на родителях. Источник любви к родным Фрейд видит в сексуальном, но при этом не следует забывать то широкое значение, которое он придает этому понятию. Либидо, сосредоточенное на родных, ведет к неприязненному чувству ревности к другим детям в семье. Это чувство особенно остро появляется при рождении нового ребенка. Так, пятилетнему пациенту Фрейда через несколько времени после рождения сестры приснилось, что она умерла, кроме того у него была фантазия, что она утонет в ванне, в которой ее купают. Позднее, под влиянием воспитания, очень скоро это неприязнь вытесняется и ее заменяет нежность к братьям и сестрам, но в снах очень часто и у взрослых проявляется эта ревность, когда сниться смерть брата, сестры. Объектом либидо могут служить и отец и мать, но позднее обычно мальчики избирают мать, девочки — отца. При этом появляется у мальчиков ревность к отцу, которая играет роль и в детский фантазиях пациента Фрейда («Психоанализ детского страха»). Эта ревность, конечно, быстро подавляется воспитанием, но на всю жизнь в бессознательном остаются соответственные переживания. Они могу появляться в снах (смерть отца), они выражены в целом ряде мифов (борьба Зевса с Кроносом и т.п.). Но наибольшее значение приобретает прием вытеснения комплекса переживаний, связанных с отцом, при помощи отождествления (идентефикации) с отцом. Ребенок в своих фантазиях хочет занять смутно чувствуемое им место отца, и он избирает отца, как идеал для подражания, с целью, как можно больше ему уподобиться. Такое значение отцовского комплекса хорошо прослежено, даже недостатком отца ребенок, а позднее юноша подражает. Нам известен случай, когда невротик идеалом своего поведения считал подражание отцу, настолько, что был доволен, когда узнал, что он нервно болен, как и отец, что у него есть наклонность к алкоголизму (отец алкоголик) и т.д. Отцовский комплекс сказывается и на выборе профессии ребенка; как показал Штекель, ребенок, вырастая, часто избирает профессию отца именно по этим бессознательным мотивам. Либидо, сосредоточенное на родителях, скажем, на матери, в дальнейшем должно быть перенесено на другой объект. Задачей воспитания является достижение такого эффекта, чтобы только небольшая часть либидо в виде любви к родителям осталась на них. Частично это либидо распространяется на няньку, устанавливает авторитет воспитателя в глазах ребенка и т.д. Если-же оно не освобождается от комплекса переживаний, связанных с матерью, то у взрослого остается инфантальность, слишком сильная привязанность, нежность к матери (или к отцу), вредно связывающая нервно-психическую энергию с детскими удовлетворениями, что, действительно, и наблюдается у невротиков.
- 181. 181 В снах материнский комплекс проявляется разнообразно, при чем в символике часто дело идет о корридорах, туннелях, по которым мы ходим и которые отпираем. Наконец, в мифах, в сказках, как мы уже видели выше, во всяческом затуманеном виде проявляются кровосмесительные грезы детства- человечества. Таким образом, возникновение бессознательного предполагает в истории человечества и в истории отдельного индивида — во-первых, наличность таких сексуальных переживаний, которые становятся нетерпимыми при более высоких ступенях развития и вытесняются в бессознательное, — во-вторых, сумму энергий, которая связана с сексуальностью ребенка или человека первобытного общества, несравненно большую, чем та, которая потребна культурному человечеству в его половых отправлениях. Поэтому освобождается огромное количество энергии. Эта энергия тратится не только на болезненные проявления, сны, миф, но и на творчество всех культурных ценностей. Научное творчество, общественная деятельность — все это связано с тратой энергии, которая освобождается, когда либидо поставлено в узкие рамки — служить целям размножения. Вся культура строится на этой энергии, а потому достигается ценою целого ряда отказа от сексуальных удовлетворений. Далеко не всеми учениками Фрейда была принята сексуальная теория бессознательного, сам он, когда у него только начало складываться учение — любой психический конфликт считал достаточным для возникновения механизма вытеснения. Позднее, по Фрейду, опыт убедил его, что чаще всего или даже всегда мы имеем дело с вытеснениями сексуального, почему он пришел к выводу, что глубочайшими корнями и основной сущностью бессознательного является сексуальное. При этом была создана и теория развития полового чувства (см. Фрейд, «Три очерка сексуальной теории»), которая положила фундамент под всякое вообще бессознательное, его содержание перестало быть случайным и индивидуальным и сделалось постоянным и всеобщим. Многие ученики Фрейда с большей осторожностью подходят к сексуальной теории бессознательного, и там, где Фрейд говорит — исключительно, они осторожно заявляют, главным образом, — сексуальное в силу присущей ему интенсивности и сильным подавлениям, которым оно подвергается со стороны этики, служит материалом бессознательного и фактором его проявлений (Ранк и Захс, «Значение психоанализа в науках о духе»). Другие ученики Фрейда строят свою собственную теорию, придавая главное значение еще менее существенным аффектам, чем сексуальное; примером может служить Адлер. По его теории невроз возникает в силу того, что невротик рождается физиологически и психически слабым, как Адлер выражается, «малоценным». Это его уже в детстве побуждает к фантазированию на тему о пополнении себя, которое бы давало ему известное преимущество над окружающими, или на тему о
- 182. 182 сверхкомпенсации (сверхуравновешивание). Эта воля к силе, к власти создает детские фикции быть полководцем и т.д. Вырастая, человек поневоле должен отказаться от нереальных, нелепых фикций, но окончательно освободится от них он не может, они вытесняются в бессознательное. И эти, ставшие бессознательными, фикции, незаметно для него — руководят его жизненным планом, создавая неудовлетворетворенность, связывая нервную энергию с вещами нереальными и совсем невоплотимыми. Так, по Адлеру — девочка, наблюдая в семье большую свободу в воспитании мальчиков, чувствует их известное преимущество перед девочками, и отсюда у нее возникает детское желание сделаться мальчиком, в возможность чего она первоначально, свято верит, пока, наконец, вырастая, не бывает принуждена отбросить подобную фикцию, с тем, однако, чтобы она продолжала жить в бессознательном, связывала психическую энергию и вела, иногда, к нелепым подражаниям мужчине, как это проявляется в уродливых выражениях феминизма. Малоценность невротика компенсирует себя и иным путем, так сказать, по линиям наименьшего сопротивления, когда невротик своей болезнью пользуется для привлечения к себе внимания — так истеричный больной своими припадками деспотически властвует над всей семьей. Воля к власти в невротике только уродливое выражение того, что мы встречаем и в нормальной психике. Нельзя не подвергать серьезной критике теорию Адлера, которая, исходя из ничтожного момента в психической механике, придает ему незаконно большое значение. Сексуальная теория Фрейда, во всяком случае, имеет гораздо большее биологическое и социологическое обоснование, хотя она и является преувеличением роли сексуального: из первичной сексуальности ребенка надо было бы, собственно говоря, называть этим именем только то, что безусловно связано с эротикой. Беспредметность полового чувства у ребенка, трудность анализа у него помогает Фрейду допустить смешение со всеми вытекающими из него последствиями. От школы Фрейда откололась цюрихская психоаналитическая школа во главе с Блейлером и Юнгом. Эта школа во многом расходится с Фрейдом в своих теоретических предпосылках, здесь она ближе к общепринятому пониманию бессознательного. Бессознательное, по Блейлеру, — переживания, утратившие связь с Я. Группа представлений, окрашенная каким-нибудь общим аффектом называется комплексом. Таким же, очень прочным, комплексом является личность — Я. Комплексы, несовместимые с этим последним, подвергаются вытеснению: психическая жизнь — механика комплексов. Сексуальное не играет решающей роли в психологии Юнга: личность развивается согласно социальным постановленным задачам. Реализация таких задач требует жертв, отказа от более примитивных удовлетворений (не обязательно сексуального характера).
- 183. 183 Если этот отказ не удается, то психическая энергия оказывается связанной, не имеющей предмета для своего воплощения. Богатство аффективных ценностей без контакта с реальной действительностью ведет к напряженности и неврозу, при чем самая жизненная задача невротиком забывается. (В аллегорической форме, в снах она может проявляться.) Мы не будем здесь подробнее излагать учение Блейлера и Юнга, так как пока оно не приобрело такого широкого распространения на педагогику и другие области, как теория Фрейда, и имеет более узкое медицинское и научно-психологическое применение. Что же касается Юнгова метода психоанализа, то он имеет большое педагогическое значение, но на нем мы подробнее остановимся ниже. Здесь мы привели некоторые теории, возникшие на почве учения Фрейда лишь затем, чтобы показать, как это учение может видоизменяться, не теряя своих специфических особенностей, очевидно, связанных уже не с личными мнениями, а с действительно тонко подмеченным опытом. Мы выяснили основные законы психической механики по Фрейду, добытые при помощи психоанализа, то есть метода для изучения бессознательной душевной жизни. Этот метод состоит в том, что истолковывая символику сновидений и других компромиссных воплощений бессознательного — мы проникаем в содержание психической деятельности. Путем к толкованию символов является применение ассоциативного эксперимента. Этот эксперимент сводится к следующему: исследуемому называют ряд специально подобранных слов, на которые, по законам ассоциации, в него возникает ответ. Но некоторые из этих слов оказываются ассоциативно связанными с тем или другим подавленным переживанием — комплексом, возникающие при этом ассоциации имеют содержание, противоречащие сознанию, и не допускаются в сознание, что ведет к замедлению ассоциации: она наступает лишь тогда, когда исследуемый подберет какое-нибудь безразличное слово для ответа. Это слово, часто удивительно не вяжется с тем, к чему оно ассоциировано, и носит характер нарочито придуманного. Таким образом мы обнаруживаем комплекс — подавленное переживание в тех случаях, когда ассоциация отсутствует или замедлена, или явно придумана исследуемым. Ассоциативный эксперимент в таком виде применяет, главный образом, цюрихская школа и ею же он был впервые употреблен для диагностики преступников. Теоретические обоснования этой диагностики следующие: преступление создает в испытуемом комплекс (группа представлений, связанная с преступлением, ярко окрашенная аффектом). Этот комплекс преступник старается подавить, не обнаружить. При ассоциативном эксперименте, наряду с безразличными словами, встречаются слова, связанные с предполагаемыми обстоятельствами преступления, например, место, время преступления, название похищенного предмета. Во время опта преступник обнаруживает комплексность этих последних слов
- 184. 184 (удлинение времени реакции, полное отсутствие ассоциаций и т.п.). Фрейд применяет свободное ассоциирование, заставляя испытуемого, опровляясь от какого-нибудь из моментов сновидений и т.п., сообщать все приходящие в голову мысли. Согласно строгому закону детерминизма в психической жизни этот ход мысли должен в результате повести к воспоминанию подавленного переживания, если удастся преодолеть сопротивление. Метод Юнга диагностирует комплекс, метод Фрейда пытается раскрыть самое его содержание. Лечение психо-неврозов — истерии и т.п. сводиться, по мнению Фрейда к такому психоанализу. Задачей лечения является — помочь больному осознать бессознательное и отреагировать связанные с ним аффекты. Таким образом, при психоанализе иррациональные и далеко несовершенный механизм вытеснения заменяется сознательным осуждением. Бессознательные переживания, застрявшие в душе с детства, вспоминаются, это сопровождается стыдом, негодованием на себя и сознательным отбрасыванием этих переживаний, после чего они уже не беспокоят. Итак, психоанализ заменяет вытеснение осуждением. Впрочем, если вполне законные потребности оказываются вытесненными в силу каких-нибудь неправильностей воспитания, предрассудков, уродливых социальных требований, то психоанализ возвращает эти потребности в сознание, ведя борьбу, таким образом, с деспотией обветшавших форм морали. Другой задачей психоанализа является помочь больному сублимировать его избыточную энергию, помочь ей вместо творчества невроза проявиться в полезных для больного и для общества формах. Метод Фрейда предполагает известную пассивность больного — ему сообщают то, чего он и сам не подозревал о себе, конечно, это делается не в отвлеченном виде, а должны быть наглядно показаны соответствующие переживания в душе больного, ведь, только при таких условиях больной может отреагировать ущемленных аффект и органически изжить его. Метод Юнга предполагает большую активность пациента — задача психоанализа лишь найти ближайшую жизненную задачу личности больного, вытекающую из всей его психической конституции, но выполнение этой задачи есть дело больного — оно требует жертвы и пациент должен на нее решиться. Всегда психоанализ предполагает свое совершенно своеобразное отношение между аналитиком и пациентом; оно выражается в том, что этот последний переносит на врача часть своего либидо, своей аффективности, в силу чего развивается особая влюбленность в врача, которая в минуты сопротивления (не желания цензуры поддаться извлекаемому в сознании комплексу может превратиться в неприязнь, ненависть, ведущую к тому, что больной совсем оставляет психоанализ и лишь позднее, когда сопротивление ослабеет — к нему возвращается. Мы не будем подробно критиковать теорию Фрейда, на многие ее теоретические недочеты мы указывали выше; их, вероятно, чувствует сам Фрейд, когда заявляет: «психоанализ не есть научное, свободное от
- 185. 185 тенденциозности исследование, он сам по себе ничего не хочет доказать, а только кое-что изменить». Безусловно, факты, добываемые психоанализом и приводимые в защиту его теории, уже искусственно подобраны, на основании определенных предвзятых теорий и потому не могут считаться строгими доказательствами учения Фрейда (Кронфельд «Психическая механика»). Но, с другой стороны, несомненен успех психоаналитического лечения, создавший ему стольких сторонников, а так же то, что его нельзя свести, как пытались, к одному, давно знакомому внушению. Психоанализ, даже Фрейдовский, предполагает большую активность лечимого и его сознательное отношение к болезни, к лечению. Внушение подавляет критику, психоанализ побуждает невротика критически задуматься над его психической действительностью. Если психоанализ и внушает, то лишь настолько же, насколько это делает всякий воспитатель своим авторитетом. Либидо на психоаналитике является необходимым условием успешной работы воспитателя (любовь к нему воспитанников), поэтому и психоанализ больше всего может быть назван определенной системой воспитания, довоспитыванием взрослого, у которого сохранились инфантальные остатки. Необходимость такого довоспитывания предполагает неправильное, уродливое воспитание ребенка. Действительно, невроз социального происхождение — результат неумелого воспитания, результат неудавшегося приспособления биологической личности к социальным условиям. Он может быть предотвращен только провальным социальным воспитанием. Психоанализ требует от воспитателя, чтобы он систему принуждения, вызывающую душевные конфликты и болезненные вытеснения, заменил воспитанием свободным, ведущим к сознательному осуждению социально- нетерпимого и отказу от примитивных индивидуалистических удовлетворений, во имя создания обще-человеческих ценностей. В частном случае полового воспитания психоанализ всецело на стороне всякой прогрессивной педагогики: он наглядно рисует вред, когда ребенок самостоятельно разрешает проблему пола и попадает тем самым в сумерки бессознательных фикций, и потому становится беспомощным в разрешении задачи: превратить сексуальную аффективность в энергию продуктивной психической деятельности. Все эти моменты психоаналитического учения для педагога делают чрезвычайно полезным изучение его. Еще два пункта должны привлекать к психоанализу педагога: он является первой попыткой дать научный метод всестороннего проникновения в индивидуальную жизнь личности, в ее росте, ее образовании из чисто биологической в социальную, и, во-вторых, он серьезно ставит проблему пересмотра буржуазной, господствующей в современном обществе морали, которая не всегда оказывается в соответствии с интересами нормального роста общественной личности. Психоанализ возник как врачебное искусство, но к врачу он предъявил требования быть педагогом, а задачу предотвращения невроза возложил на воспитателя.
- 186. 186 Путь просвещения, 1922, № 6, с 196–218